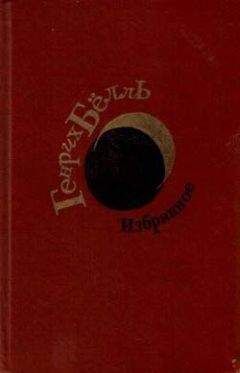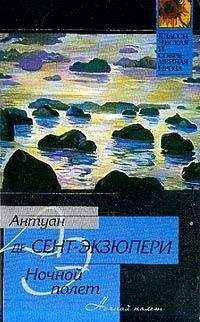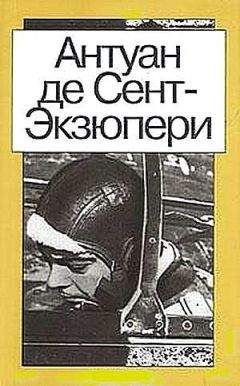Человек становился все мрачней. Он был маленький, щуплый, немолодой. Когда проехали немного дальше, он нагнул голову и закричал в темноту кузова:
– Ясное дело, везут за город, домов все меньше и меньше!
Ему ответил глухой, стонущий гул голосов, а машина сразу набрала скорость и пошла быстрей, чем можно было ожидать от такой тяжелой громадины. Дорога стала пустынной, темнело. В воздухе стоял пряный аромат осени. Сквозь густые ветви деревьев провисал туман. Человек опять наклонил голову и крикнул вниз:
– Домов больше не видно, проселок, идем к югу!
Гул внизу усилился, а машина пошла еще быстрей. Человек был утомлен, он совершил дальнюю поездку по железной дороге, а теперь стоял на плечах двух мужчин разного роста, и это утомляло его еще больше. Ему хотелось присесть, но, на свою беду, он оказался самым маленьким и худощавым из всех ехавших в фургоне, и его поставили смотреть, что происходит на дороге. Долго, очень долго на дороге ничего не было видно. Когда стоявшие внизу рванули его за ногу, желая узнать, что случилось, почему он умолк, он ответил, что ничего не видит, кроме темнеющих вдали полей и деревьев вдоль шоссе.
Вскоре у кювета он заметил двух солдат возле мотоцикла. Солдаты шарили фонариком по карте. Когда фургон поравнялся с ними, они на миг подняли головы. Затем какое-то время человек в люке не видел ничего примечательного, пока они не поравнялись с остановившейся танковой колонной. Один танк был поврежден, какой-то парень лежал под ним на животе, другой светил ему карбидной лампой. Быстро скользили мимо них крестьянские хаты, темные крестьянские хаты, а слева фургон обогнала идущая на большой скорости колонна грузовиков, набитых солдатами. Вслед за грузовиками, обгоняя их, промчалась юркая серая машина с командным флажком. Возле придорожного сарая сделала привал какая-то пехотная часть, вид у солдат был усталый, некоторые курили, лежа на земле. Автофургон пересек деревню, и вскоре человек, выглядывавший из люка, услышал первые выстрелы: била тяжелая батарея, справа от дороги. Длинные черные стволы орудий уставились в темно-синее небо. Кровавые вспышки пламени вырывались из жерл, и мягкие красноватые отблески падали на стену амбара. Человек испугался – он никогда еще не слышал выстрелов, его сковал страх. У него был больной, очень больной желудок, фамилия его была Финк, в чине унтер-офицера он служил буфетчиком в большом госпитале, стоявшем сейчас в Линце, на Дунае. Ему сразу стало не по себе, когда начальник послал его в Венгрию раздобыть токайское – токайское и ликеры и, если удастся, шампанское. Придумал же, в Венгрию за шампанским! Откуда оно там? Что верно, то верно – он, Финк, единственный человек в госпитале, который отличит настоящее токайское от подделки, и, как ни говори – не перевелось же еще токайское в Токае!
Начальник госпиталя, Гинцлер, любил побаловать себя токайским, но на сей раз он хотел, видно, сделать сюрприз своему собутыльнику и партнеру по скату полковнику Брессену, – обращаясь к нему, все невольно говорили «фон Брессен», потому что тонкое, породистое лицо полковника и сверкавший у него на шее высший орден – такой не часто встретишь – придавали ему весьма значительный вид. У себя дома Финк держал винный погребок, он знал людей и понимал, что начальник просто хотел пустить пыль чглаза. Пятьдесят бутылок настоящего токайского! Наверно, пари проиграл или что-то и этом роде, скорей всего Брессен и подбил его на эту затею.
Финк поехал в Токай и раздобыл там пятьдесят бутылок вина, к его собственному удивлению, настоящего токайского. Финк вырос в городе виноделов, сам имел виноградники и был хозяином погребка. Он-то уж знал толк в вине и не доверял токайскому, купленному даже в самом Токае. Так или иначе, но бутылками с вином он наполнил чемодан и большую корзину. Чемодан стоял теперь внизу, в фургоне, а корзину пришлось бросить в Сентдёрдь, на вокзале. Он там и оглянуться не успел, как его вместе с другими прямо с поезда загнали в мебельный фургон. Ни протесты, ни ссылки на болезнь – ничто не помогло. Оцепили весь перрон, и волей-неволей пришлось лезть в ожидавшую у вокзала машину. Некоторые взбунтовались, подняли было крик, но конвойные стояли как истуканы.
Финк опасался за свое токайское – его начальник был тонким знатоком вин и человеком очень щепетильным в вопросах чести. Можно не сомневаться, что он дал слово Брессену в воскресенье распить с ним бутылку-другую токайского. Наверно, даже час назначил. Но сегодня четверг, пожалуй, даже пятница, светает уже – они едут к югу, и вряд ли он теперь доберется до Линца в воскресенье к вечеру. Финку было страшно, он боялся своего начальника, да и полковника тоже. Не нравился ему этот полковник. Он знал о нем кое-что… Но кому об этом скажешь? Кто поверит? Такая мерзость! И сам бы не поверил, если бы не видел своими глазами, очень хорошо видел. Он знал, что ждет его, если полковник заметит, что он это видел. По нескольку раз в день он заходил в палату полковника, приносил ему еду, что-нибудь выпить, иногда книги. Брессена в госпитале всячески ублажали. Однажды вечером он вошел к нему, не постучавшись, и тут, в полумраке, он и увидел это, увидел отвратительную гримасу на бледном старческом лице В тот вечер Финку кусок не лез в горло. У них дома, если поймают мальчишку за таким делом, его тут же окатят холодной водой – и помогает…
Финка опять потянули за ногу, и он крикнул вниз, что видел пушки, батарею, ведущую огонь. В фургоне завопили.
Постепенно тьма поглотила отблески орудийного огня, и гром выстрелов, еще недавно ужасающе близкий, казался теперь далеким, как раньше разрывы снарядов, в полосу которых они теперь въезжали. Машина шла дальше – мимо танков, мимо остановившихся танковых колонн, а потом у колодца он увидел другую батарею, здесь пушки были поменьше. В резких и скупых вспышках выстрелов, будто темная виселица, поднимался над колодцем журавль. И опять на время дорога опустела, потом показалась еще одна батарея… Потом Финк услышал трескотню пулеметов: они ехали как раз в ту сторону, откуда доносились пулеметные очереди.
Вдруг они остановились в какой-то деревушке. Финк спрыгнул вниз и вместе с другими выбрался из фургона. Кругом шла невероятная кутерьма: всюду стояли машины, слышались крики, по улице метались солдаты, все отчетливей доносились пулеметные очереди…
Файнхальс шел позади унтер-офицера, который всю дорогу глядел из люка на крыше фургона. Согнувшись, унтер-офицер тащил свой тяжелый чемодан, а сам он был такой маленький, что приклад его винтовки волочился по земле. Файнхальс пристегнул вещевой мешок к поясу и, широко зашагав, догнал унтер-офицера.
– Давай помогу! – сказал он. – Что там у тебя в чемодане?
– Вино, – задыхаясь, ответил маленький унтер, – вино для нашего начальника.
– Рехнулся ты, что ли? Брось его, не потащишь же ты на передовую чемодан с вином!
Маленький унтер упрямо затряс головой, и Файнхальс понес чемодан вместе с ним. От усталости унтер-офицер еле передвигал ноги, его шатало, он печально покачивал головой и благодарно кивнул, когда Файнхальс ухватился за ручку. Чемодан оказался невероятно тяжелым.
Пулемет справа прекратил огонь. Теперь деревню обстреливали русские танки. Позади затрещали растепленные балки, забегали огненные блики и мягко осветили грязную, изрытую воронками улицу.
– Да брось ты эту штуку, – сказал Файнхальс, – не сходи с ума!
Унтер-офицер ничего не ответил, он, казалось, еще крепче ухватился за ручку чемодана. Позади них загорелся еще один дом. Лейтенант, шедший впереди, вдруг остановился и крикнул:
– Постойте здесь, возле этого дома!
Они подошли к дому, на который он указал. Маленький унтер приткнулся у стены и уселся на свой чемодан. Теперь смолк и пулемет слева. Лейтенант вошел в дом и вскоре вернулся с другим офицером – обер-лейтенантом. Файнхальс сразу узнал его. Солдат построили, и Файнхальс был уверен, что даже сейчас, в красноватых сумерках, обер-лейтенант попытается разглядеть их ордена. У самого обер-лейтенанта стало одним отличием больше, теперь у него был настоящий орден, вернее – орденская колодка, красовавшаяся на его груди, пополнилась черно-бело-красной ленточкой. «Слава богу, сподобился наконец!» – подумал Файнхальс. С минуту обер-лейтенант, улыбаясь, смотрел на них и бросил через плечо стоявшему позади него лейтенанту:
– Прекрасно!
Опять улыбнулся и повторил:
– Прекрасно, не правда ли?
Лейтенант промолчал. Только теперь солдаты разглядели его как следует. Он был невысокий, бледный, не первой молодости, на давно не мытом лице застыло сосредоточенное выражение. На груди ни единого ордена.
– Господин Брехт! – сказал, обращаясь к нему, обер-лейтенант. – Вы возьмете для подкрепления двух человек. Прихватите с собой и фаустпатроны. Человек четырех подкинем Ундольфу. Остальных оставляю при себе.