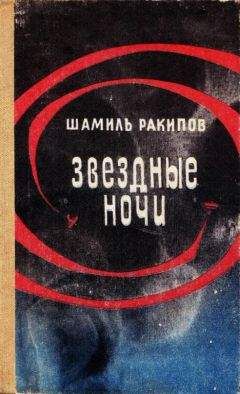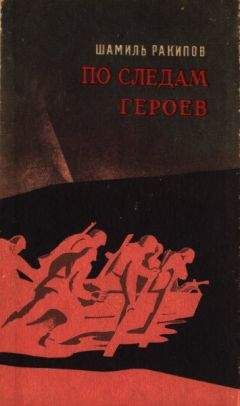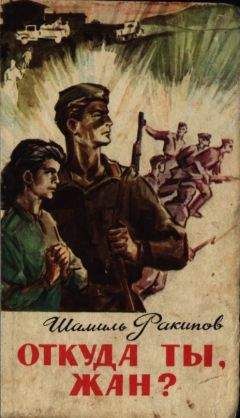Пока техники возились с нашим самолётом, мы с Валей пили чай в столовой.
— Приятно после такой встряски чайку попить, — сказала она. — Только время идёт, жалко. Я видела в капонирах истребители. Трудно целиться, но из четырёх бомб одна попадёт, и то хорошо. Может быть, те самые «вульфы», которые сделали налёт на наш аэродром. Пока мы тут сидим, девочки их раздолбают.
— Останется что-нибудь на нашу долю. На мысе ещё два аэродрома. Спой-ка, Валюша, что-нибудь народное. — На слове «народное» я сделала ударение.
Валя покраснела.
— Понравилась тебе та песня? Правда?
— Конечно. Она в сто раз лучше той, в которой поётся: «Мы летим, ковыляя во мгле…»
— Про полёты и Севастополь я только сегодня сочинила. Есть у меня ещё одна песня, которая мне самой нравится. Пойдём, по дороге спою. Мелодия, конечно, примитивная, так, что-то вспомнилось похожее. Жаль, нет у нас в полку своего композитора.
— Удивительно, что нет.
Вышли в степь, Валя запела:
Ты помнишь, подруга,
Хлестала нас вьюга
Не снегом — свинцом.
Клокочущий Терек,
Пылающий берег
И горы кругом.
Ты помнишь, как рядом
Фашистским снарядом
Сразило подруг?
Как сердце заныло,
Как стало уныло
И пусто вокруг?
Ты помнишь, по нитке
Мы шли под зенитки,
Под огненный смерч,
Чтоб свет увидала
Из пепла восстала
Красавица Керчь.
Над степью, над морем,
Фашистам на горе.
Рокочут «По-2».
И реет над нами
Гвардейское знамя,
Святыня полка.
— Отличная песня, — похвалила я. — Покажи девушкам. И Бершанской.
— Рано ещё показывать.
— Почему? — удивилась я. — Ничего не рано. Всё покажи, что написала. Ты настоящая поэтесса. Признаться, не ожидала от тебя такого… Слов не хватает.
— А я ничего не записывала. Придумываю всегда в полёте, пою, пою про тебя, что в голову придёт. Чаще всего, конечно, ерунда, на земле всё забывается, как будто ветерком выдувает. А на душе всё легче становится. Эти две песни только и остались. Ну, ещё отдельные строчки. А над этими двумя ещё хочу поработать.
— Не надо. Вдруг испортишь, — возразила я. — После войны наведёшь блеск.
— Нет, поработаю. Последний куплет будет у меня припевом: «Над степью, над морем…» А после Керчи — куплет о Севастополе. Потом о Белоруссии. И так далее. Последний — о Берлине.
— Это ещё когда будет. Перепиши обе песни для м. еня, ладно? Без твоего разрешения никому не покажу…
Мы полетели бомбить тот же аэродром на мысе.
— Поглядим, осталось ли что-нибудь на нашу долю, — сказала Валя, сбрасывая САБ.
Осталось — часть бомб наших предшественниц упала между капонирами. До утра работы хватит.
В перекрестье нескольких прожекторных лучей повис наш многострадальный «По-2». Сколько же боеприпасов израсходуют на него немцы?
С небольшим интервалом отцепились две пары стокилограммовых бомб. Падаю в море… Один виток. Второй. Третий… Изгрызли самолёт, как бешеные псы… Отвязались наконец. Над аэродромом САБы…
В эту ночь мы больше не летали.
Ночь шестьсот девяносто восьмая
В юности мне приходилось участвовать в скачках, однажды я вышла даже победительницей и получила приз — сапожки из тонкой, мягкой кожи, расшитые узорами. Победу мне принёс гнедой скакун Алтынбай, быстрый, как ветер. Так давно это было, и вот снова скачу во весь дух. Каждая жилка натянута до предела, из-под копыт, как брызги, разлетаются камешки… Та-кой снился мне сон. Ещё, ещё быстрее! Конь наклонил голову, грива, колеблемая ветром, вдруг стремительно закружилась перед глазами, превратилась в пропеллер, и меня это почему-то нисколько не удивляет. Гул мотора становится всё громче… Я проснулась: услышала нарастающий грохот пикирующих самолётов, в ужасе вскочила.
«Опять налёт!» — мелькнула мысль.
Лейла в одной рубашке, с распущенными волосами, чистая ведьма, выскочила за дверь.
Совсем ошалела. Так и побежит к самолёту?
Вскоре она вернулась, лёгкая, весёлая, как птичка. С сапогами в руках я села на кровать.
— Наши.
— Как наши? — я ничего не могла понять. В самом деле — ни выстрелов, ни взрывов.
— Истребители, — Лейла покрутила рукой в воздухе. — Летят с задания, решили покувыркаться. В нашу честь. Прямо над общежитием.
— Они чего? — я постучала пальцем по голове. — У меня вся душа ушла в пятки.
— Я тоже перепугалась.
— Безобразие. Надо доложить Бершанской.
— Вера Белик сказала, что это типичный случай. А я послала им воздушный поцелуй.
— С ума сошла. Они теперь нам совсем спать не дадут!
— Ты бы посмотрела, как они вертелись! — покачала головой Лейла.
— Думала — Ахмет среди них?
— Нет, он человек серьёзный. Не думала. Письмо от него получила. Хочешь, прочитай, — она кивнула на тумбочку. — Поспим ещё часика два? Между прочим, эти ребята взяли пример с тебя.
— Как это с меня? — не на шутку встревожилась я. — Что ты мелешь?
— Ну, видели, как ты петли выделывала, решили показать, что тоже не лыком шиты. Так что докладывать Бершанской не советую, она тебе припомнит.
Я рассмеялась и забралась в постель. Рассказала Лейле, какой чудный сон видела.
— А мне огненные шары с хвостами снились, — пожаловалась она.
Забегая вперёд, скажу, что кто-то из девушек всё же доложил Бершанской о «концерте» лётчиков, она позвонила в штаб армии, высокое начальство намылило шеи нашим рыцарям и объявило Чеботарку запретной зоной.
Заснуть я не смогла, полежала с полчаса с закрытыми глазами, поднялась, глянула на письмо, лежащее на тумбочке, увидела слова: «Моя любимая!» Так, так, стиль изменился. Не удержалась, прочитала всё письмо. Я ошиблась, стиль не изменился, разве чуть-чуть.
«…Твой ангельский почерк, кругленькие, как жемчужины, буквы…»
Да, почерком Лейлы можно любоваться, понимаю я этого парня, сочувствую ему.
«…Благодарю за — сердечное письмо. Считаю тебя своей невестой. Если уйдёшь к другому… Передо мной лежит кинжал, его лезвие сверкает, как семьдесят семь радуг. Знай, прекраснейшая из прекраснейших, он вонзится в твоё коварное сердце…»
Вот Хас-Булат удалой! Нет, чтоб самому зарезаться. Впрочем, «Лейле так и надо. «В Алупку поеду!» Вот и будешь спать с радугами в груди. И защищать тебя не стану, бесполезно. Ахмет перешагнёт через мой труп. Настоящий джигит.
Жив-здоров, счастлив, что оказались в одной армии, словно живут в одном доме, только в разных подъездах… «Стоящий на страже. Преданный до могилы…» Вот именно.
— Вставай, дочь ночи, открой свои коварные глаза!.. Погода нелётная, низкая облачность. Все приуныли. Наземные войска вгрызаются в немецкую оборону, теснят фашистов со всех сторон, а мы будем прохлаждаться целую ночь…
Никакого задания полк не получил, из штаба дивизии пришла телефонограмма: полёты отменяются. Но мы — в полной боевой готовности. Во-первых, погода может внезапно перемениться. Во-вторых, неизвестно ещё, что скажет наша разведчица, командир эскадрильи Дина Никулина, когда вернётся. Надежды терять не будем.
Рядом с Бершанской — представитель Сталинградской дивизии, на этот раз полковник. Очень высокий, похож на Рокоссовского. Как по заказу!
— Подойдём поближе, — тихо говорю я Вале. — Это я упросила Бершанскую. Как видишь, пошла навстречу.
Валя смеётся, стукает меня кулачком по плечу, но идёт со мной.
Выбрав удобную позицию, шепчу ей на ухо:
— Подмигни ему. Не теряйся.
Валя прыснула, полковник и Бершанская удивлённо посмотрели на нас. А мы глядим в небо…
Летит наша ласточка. Хорошо, что на разведку погоды послали Дину. В её характере что-то чкаловское.
— Можно работать, — твёрдо заявила Никулина. — Над линией фронта то же еамое, — она небрежно вскинула руку к небу, словно там были рассыпаны звёзды.
Все невольно подняли головы. До облаков 300 метров, дымка, никакого просвета.
— Во всех полках разведчики погоды доложили, что работать нельзя, — голос у Бершанской не совсем уверенный, и Диночка это усекла.
— Трудно, конечно, — она в упор посмотрела на полковника. — Но летать можно. По вертикали видимость неплохая.
Очень убедительно, молодец, Дина. По горизонтали мы только летаем, главное — увидеть цель, сбросить бомбы. Инструкция? Её писали мужчины…
Неужели Евдокия Давыдовна не — чувствует, как стонут наши сердца? Конечно, чувствует. А полковник? У него сложное положение. Скажет, что летать нельзя, мы решим — покрывает своих: мужчины прозябают, и вы не рыпайтесь. Честь мундира. Мужского. А согласиться с Никулиной — разделить ответственность е Бершанской. Если погибнет хоть один экипаж, ему не поздоровится. Молчит, и правильно делает. Только слегка плечами пожал, моё, мол, дело сторона.