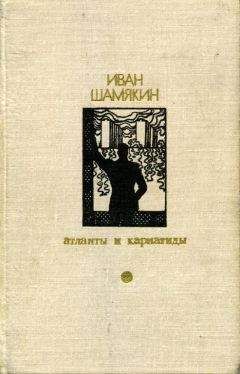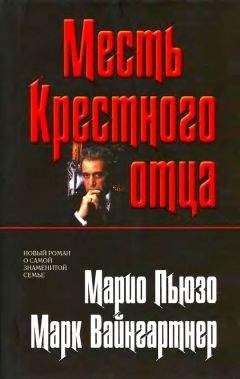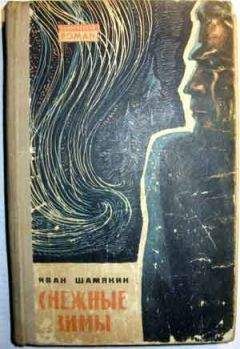А между тем это было так. Привыкнув в своем базарном окружении и не к таким словам, Ольга совсем не обиделась за «мещанку» и за все упреки, брошенные им. Об утробе думает? А кто не думает? Сколько их таких, как он, святых? Короткая у них жизнь в такое суровое время. Как у мотыльков. Только под крылом ее мещанским он может прожить дольше, Вот о чем она думала все время. А вспышка его даже обрадовала. Как он схватил ее за плечо, как встряхнул! Может, впервые она почувствовала в нем мужчину.
Но, вспомнив обыск и его намерение уйти, испугалась. Поняла: не он оскорбил, а она оскорбила чувства его высокие, его стремления. И он может уйти. Этого она боялась. От мысли такой не раз холодела по ночам. Страшно остаться одной. Чтобы снова нахально приставали полицаи… Но даже и не поэтому. Может, главное в том, что с ним она почувствовала себя как бы богаче и… чище. Душевно чище. Раньше никогда не думала, что кроме богатства, которое можно купить и продать, есть еще и душевное, не покупаемое ни за какие деньги, но когда есть оно, с ним легче жить. Теперь даже к торговле своей, к приобретению продуктов, дорогих вещей она относилась иначе, начала сознавать, что все это может понадобиться не ей одной. Кому и зачем это может понадобиться, пока что ясно не представляла, но мысли такие как бы очищали. И все это от него, от этого больного парня. От стихов его. От высоких слов про Родину. От порывов, над которыми сначала хотелось посмеяться: мол, хотя и двадцать лет тебе, а мысли детские, начитался книжек, а жизни не знаешь, а она, жизнь, совсем иная, чем в книжках. Но теперь выходит, что и ее чем-то захватила эта книжная, выдуманная, как она считала, жизнь. А может, не такая она выдуманная? Может, правда, нужно жить иначе? Нет, о том, чтобы изменить свою жизнь теперь, во время войны, Ольга, безусловно, не думала. Не будет она голодать, как Боровские, и ребенка голодом морить не собирается. Но ведь можно совмещать одно с другим, рыночные дела с необычностью, красотой вечернего отдыха. Чтобы он тихим, но дрожащим от волнения голосом читал вот такое:
Таварышы-брацця! Калі наша родзіна-маць
Ў змаганні з нядоляй патраціць апошнія сілы, —
Ці хваце нам духу ў час гэты жыццё ёй аддаць,
Без скаргі палеч у магілы?![3] —
а она сидела бы, подперев рукой щеку, смотрела на его бледное лицо, на его и впрямь ангельский вид, и ей хотелось бы плакать от этих жалостных слов, от своего умиления им, от страха за него… от всего сразу. Нет, нужно быть искренней перед собой: думала она не только о духовной близости… Не постеснялась признаться, что любит его и никому не отдаст. И любовь ее теперешняя совсем не похожа на ту, что была к Адасю и до замужества, и после, во время их совместной жизни. Она, эта новая любовь, — как у того Блока, которого они читали вместе, а потом она по утрам читала одна, почему-то не желая, чтобы Олесь видел это, стеснялась. Только ревность была прежняя, такая же, как и ко всем тем женщинам, которые иногда заглядывались на ее Адася. Когда-то она избила кондукторшу трамвая, когда сама увидела, что та билеты продавать забывает, а стоит около вагоновожатого и балаболит ему на ухо. Да еще и у начальства трамвайного парка потребовала не направлять такую на линию с ее Авсюком: она не хочет, чтобы муж ее попал в тюрьму, чтобы на его совести была человеческая жизнь, хватит того, что отец ее под трамваем смерть нашел.
Никаких других отношений между молодым мужчиной и молодой женщиной Ольга не признавала. Потому и поверить не могла, что у Лены иной интерес во встречах с Олесем. Считала, что у любой бабы, какую бы должность она ни занимала, что бы ни делала, в голове одно — мужчина.
Была уверена, что Лена связана с теми, кто взорвал офицерское кафе на Комсомольской улице, подпалил склад на товарной станции, о ком немцы вывешивают приказы — пойман, расстрелян, но ревность от этой уверенности не уменьшалась. Пожалуй, наоборот: думала, что поскольку и он рвется туда же, то такая общность взглядов и целей обязательно сблизит их.
Ольга долго сидела на кухне, опечаленная, кляла свой дурной характер и свою сиротскую долю.
В «зале» постояла перед зеленой плюшевой занавеской — дверьми в его комнату. Хотела, чтобы Олесь отозвался. Но он молчал, его не было слышно — притаился. Тяжело вздохнула, пошла к себе. Заснуть, конечно, не могла. Ворочалась, вздыхала: пусть слышит, может, поймет, что и она переживает. Он ведь добрый, смягчится, пожалеет.
После своего признания, смутившего парня, сколько раз Ольга порывалась пойти к нему ночью. Но каждый раз сдерживала себя. Не из стыдливости. Нет. Никогда не стыдилась взять то, что считала принадлежащим ей. Сдерживало иное. Дала зарок не делать первого шага, не ронять женского достоинства. Добиться, чтобы первым пришел он. Только в таком случае счастье ее будет полным.
Но теперь, когда возникла угроза, что он может уйти навсегда — к Лене уйти! — стало не до тонкостей, нужно отважиться на такое, что привязало бы его навсегда. Это будет очень нелегко. Раньше самоуверенно полагала, что ни один мужчина не в силах устоять перед ее чарами. Но в отношении Олеся такой уверенности не было. Необычный он, одержимый какой-то. Да и слабый еще, выздороветь выздоровел, а сил не набрался.
В полночь уже, услышав в тишине ночи, как он повернулся и вздохнул — не спит, мучается, бедняга! — Ольга наконец решилась.
Пошла в одной сорочке, босая. А он лежал на незастланной постели, поверх одеяла, одетый. Ольга на мгновение растерялась. Но по ногам тянуло от холодного пола. Да и не отступала никогда от того, что задумывала. И она забралась под край ватного одеяла, на котором он лежал.
Олесь отодвинулся, но не поднялся и ничего не сказал. Это ее подбодрило. Однако Ольга ждала, чтобы первым заговорил он, пусть скажет хотя бы одно слово — и все станет ясным. Но он молчал, даже дыханье затаил. «Испугался», — подумала Ольга, и ей стало весело, захотелось смеяться.
— Ты обиделся?
— Не-ет. За что?
Хорошо, что он отвечает, но плохо, если считает, что на нее не стоит даже обижаться.
— Я тебя люблю.
Он не ответил. Это задело ее женское самолюбие, она спросила с иронией:
— Скажи мне — ты мужчина или не мужчина?
— Я никогда не крал чужое.
Тогда она повернулась, приподнялась, наклонилась над ним, ощущая близость его губ, зашептала:
— А это не чужое. Твое!.. Все тут твое! Любимый мой, славный и глупый! Какой же ты ягненок неразумный! Не бойся. Полюби меня, и я все отдам тебе! — И зажала ему рот своими губами, чтобы он не сказал, что ему ничего не нужно. Целовала горячо, жадно…
А потом была бессонная и очень короткая ночь. Они говорили без конца. Они как бы спешили высказать все, чего не могли сказать друг другу больше чем за месяц жизни под одной крышей.
Конечно, Адасевой силы у него не было. Но было иное, чего она не знала раньше, — необычная нежность и в словах, и в поцелуях, и в трепетной взволнованности, даже в ударах сердца, которые она слышала, прижимая его к себе.
Олесь признался, что до этого не знал ни одной женщины, она первая. Ольгу растрогало это и наполнило еще большей влюбленностью и радостью. Все, что произошло между ними, казалось совершенно чистым, безгрешным, и совесть не тревожила ее, не чувствовала она вины ни перед Адасем, ни перед дочерью. Вину чувствовал он. Сказал об этом. Ольга ответила поцелуями.
— Не думай, не думай… не нужно. Не твоя вина, моя. Я грешная… Но я не боюсь греха, потому что люблю тебя.
Стала просить, чтобы он никуда не рвался, ни в какую борьбу не встревал, пережил войну у нее и она даст ему все, что нужно для счастья. Сказала — и сразу почувствовала его молчаливую настороженность и отчужденность; он будто резко отстранился, хотя в действительности не пошевелился, только замер в неподвижности. Опомнилась и зареклась: не говорить больше об этом, пусть все идет как идет. И, чтобы вновь приблизить его, сказала:
— А приемник… правда, зачем он нам, если все равно послушать радио нельзя?.. Пусть Лена забирает… Только, если что, не сказала бы, у кого взяла…
— Не скажет, Лена не скажет, — быстро и горячо зашептал Олесь.
— Ты так говоришь, будто знаком с ней с пеленок. Я ее лучше знаю, — сказала вполне спокойно, сама довольная, что прежней ревности нет. Откуда ей быть, той ревности, когда парень принадлежит ей и она знает, какой он действительно ягненок.
Но этот кроткий юноша стал теперь ее властелином, и она отдавала ему все, открывала все тайны. Даже призналась, где прячет пистолет. Сама сказала. В старой иконе, что висит на кухне. Покойница мать сделала в иконе тайник еще во время гражданской войны, когда в Минске по два раза в год менялась власть.
За приемником приехали на грузовике, с камуфляжно, по-немецки, раскрашенной кабиной и бортами. Машина испугала Ольгу. Она только что вернулась с барахолки, где натерпелась страху. Немцы устроили первую массовую облаву. Окружили весь рынок, выпускали через трое «ворот», проверяли документы, вещи, обшаривая даже карманы. Ольга не боялась ареста. За что ее могут арестовать, известную всей полиции, да и некоторым немецким жандармам, торговку? Но испугалась, что лишится добра. В тот день коммерция ее шла выгодно. Она продала муку, соль и нутряное сало не за марки — в оккупационные марки слабо верила, — за перстни золотые и ручные часы, при этом, что важно для душевного спокойствия, не боялась, что ее обманули, подсунули вместо золота начищенную медь: со старым профессором в золотом пенсне, которому очень нужно было поддержать больную жену, она договорилась еще два дня назад. Растроганная его непрактичностью и беспомощностью, дала старику дополнительно фунт пшена, хотя могла бы и не давать. Доброта ее была вознаграждена: за остаток сала и пшена купила отрез чудесного, тонкого сукна, А потом еще больше повезло. На глаза попался тот усатый, красивый мужчина, подходивший к вей еще осенью, в первые холода. Тогда он был в добротном, вышитом золотыми нитками кожушке, шутил, набивался в примаки. Сейчас он мало походил на жениха: похудел, усы отросли и обвисли, как у старика, порыжели, будто подпаленные; одет он был в замызганный ватник, на голове облезлая заячья шапка. Но на руке у него висел все тот же кожушок, привлекая уже не золотом вышивки, а густой шерстью. Наверное, мужчина запрашивал приличную цену, потому что покупатели сразу «отваливались».