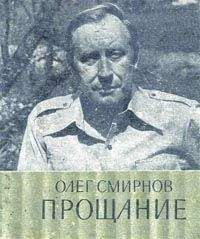А грохот нарастал и нарастал — небывалый, чудовищный, казалось: его не выдержишь, спятишь, завоешь. Но никто не сходил с ума, не выл. И с места никто не сходил. Молчали… Взрывы то сливались в ровный, сплошняком, грохот, то вдруг на секунду улавливалось: снарядные взрывы будто плющатся более мощными, бомбовыми. Будет ли этому конец? Ведь всему же на свете бывает конец. И все-таки он еще жив, коль чувствует, как болят голова и сердце, коль понимает: драться надо до последнего мига. Правильно понимает. И потому смерть обязана погодить. Хоть малость. Он подумал об этом в считанные мгновения, — мысли были скоротечные. А потом они стали обычными — ни быстрыми, ни медленными, — ибо он стал думать об обычном: после артиллерийского обстрела и бомбежки немецкие автоматчики поднимутся в атаку. Автоматчики — что ж, не двинулись бы танки. А на рассвете, до артобстрела, танковые моторы были слышны в лесу. Стихли — начала бить артиллерия. Немцы подтянули танки к заставе? Сколько их? Как пойдут? Вместе с автоматчиками? И как нам быть? Гранат нет, пушек — подавно. Разве что стрелять по смотровым щелям. Против танка с винтовкой и пистолетом не очень повоюешь? Повоюем! На то мы и пограничники. Какое счастье, что сейчас со мной Белянкин и Лобода, где-то недалеко Иван Федосеевич и еще кто-то из бойцов, рядом — те, что в овощехранилище. Вместе мы сильней. Вместе и умирать проще. Если она близка, смерть, то я хочу сказать: прощай, Родина, и не забудь обо всех нас.
Ревели самолеты, разрывы сотрясали воздух и землю. Бомба разорвалась подле овощехранилища, вторая упала на него, посередине, и Скворцов вздрогнул: раненые добиты. Снаряд взорвался вблизи траншеи, Лобода схватился за плечо, из-под сжавших плечо пальцев на гимнастерке проступала кровь. «Крепись, Павло, помогу!» — хотел крикнуть Скворцов и не крикнул: сквозь утихающий гул бомбовых и снарядных разрывов услышал танковый гул. Скворцов вытянул шею, прислушался. И Белянкин вытянул, и даже вторично раненный, морщившийся от боли Лобода. А чего прислушиваться? Все ясно: последний разрыв — и от леска к заставе покатился железный, неотвратимый, пожирающий живые звуки гуд.
Из-за сосенок, раздвигая и ломая их, выползли два танка и, развернувшись, — к заставе. Они не спешили, именно ползли — проваливались в вымоины и воронки, взбирались на гребень холма, опять проваливались и за ними так же неспешно, толпой, топали автоматчики. Танки были черные, припорошенные пылью, а отполированные траки сверкали на солнце, будто вспышки выстрелов. Но выстрелов пока нет, они еще будут: орудийные стволы расчехлены. Ну, а гусеницами танки давят. И чем остановить эти бронированные махины? Надо с толком прожить отпущенное. И Скворцов поднял автомат, выпустил короткие очереди по смотровым щелям, затем по автоматчикам. И сразу, без задержки, танковые орудия выбросили пучки огня. Снаряды разорвались почти одновременно — за тем, что было овощехранилищем. Скворцов не видел и не слышал, стреляет ли еще кто-нибудь из пограничников. Он слышал только сухой треск своего автомата. По смотровым щелям больше не бил — попробуй угоди туда, мало шансов, — а вот уложить сколько-то автоматчиков вполне можно. Автоматчики тоже открыли огонь. Снова ударили танковые орудия.
Танки, разъединившись, подходили с двух сторон, неуязвимые, рычащие двигателями, скрежещущие траками. Скворцов подумал: «Осколок помилует, гусеница раздавит…» Но осколок его не помиловал: ударил в плечо, Скворцов вскрикнул, упал. Однако сознание не покинуло. Боль раздирала, словно вгрызалась вглубь, поближе к сердцу, и, может, оттого сердце требовало: не торопись помереть, повоюй, в диске не все патроны кончились. Окоп был мелкий, заваленный глыбами земли, и Скворцов по глыбам, на локтях, вполз на бруствер, огляделся. Танк, что шел справа, повис над траншеей, вот-вот подъедет вплотную к развалинам заставы, автоматчики, обгоняя машину, вбегали во двор. Кровь стекала под майкой вниз, к животу, холодила. Почему? Она же теплая. От слабости тряслись руки, меркло в глазах.
Скворцов перевел автомат на одиночные выстрелы — чтоб ни один патрон не пропал впустую, — приладился на бруствере и стал нажимать на спусковой крючок. И после каждого его выстрела кто-то из солдат падал. Он стрелял до тех пор, покамест в диске не кончились патроны. Нажимал и нажимал на спуск, но выстрелов не было. И, ужаснувшись, понял: не оставил "единственной пули, все в горячке израсходовал. Послал в немца ту пулю, которую должен был послать себе в висок. Что ж теперь будет? И, подумав об этом, Скворцов сразу же глянул туда, где были Белянкин и Лобода, в нескольких метрах от него. И увидел: к ним бежали спрыгнувшие со второго танка десантники. Увидел: политрук сунул дуло в оскаленный рот и выстрелил — голова мотнулась, и Белянкин свалился. Покончил самоубийством. Лишь бы не попасть в плен. А что же делать ему, Скворцову? Автоматчики подскочили к Лободе, один из них, в распахнутом френче, ударил сержанта затыльником автомата в лицо, сержант упал. И тогда Скворцов понял, что надо делать. Разбить голову. Размозжить. Ослабевшими, дрожащими руками он занес над собой приклад автомата и ударил по темени. И еще ударил, и еще. Кровь заливала лицо, тошнило, а он бил и бил, пока не ослеп от крови и боли, пока не покатился в зияющую чернотой бездну…
Но когда долетел до усеянного скальными обломками дна ущелья, когда они вонзили в его тело свои каменные клыки, он открыл глаза, и по ним резануло солнце. Первой мыслью было: чернота притворяется солнечным светом. Однако солнце продолжало светить, и он подумал: «Сколько же времени я летел в бездну? И почему остался живой, не разбился?» То, что не умер, он ощущал всем своим немощным, пораненным телом: от боли раскалывалось темя, жгло в продырявленном плече, покалывало в онемевших, затекших ногах, пересохшую глотку раздирала сухость.
— Воды! — попросил он.
Ему казалось, что свою просьбу он прокричал. Но это был шепот, и все-таки его услыхали: человек, сидевший рядом, наклонился над ним, поднес флягу к губам. Скворцов сделал несколько глотков и узнал того, кто поил:
— Лобода? Ты?
— Я самый, товарищ лейтенант…
— Где мы?
— Та на заставе, в плену, где ж еще…
Застава и плен — сочетание этих двух слов — как две стальные всесильные ручищи схватили Скворцова за шиворот, встряхнули. Никакой бездны, никаких скальных обломков, никакой потусторонней тьмы. Все проще и страшней. Приподнявшись на локтях, из-под оплывших век Скворцов увидел: среди руин бродят немецкие автоматчики, разглядывают трупы; посреди заставского двора — танки с задранными орудийными стволами, крышки люков откинуты, у машин топчется экипаж в кожаных куртках. Так. Немцы на заставе. Свершилось. А кто же живой из пограничников? Лобода и он, Скворцов? Перевел взгляд на сержанта — предплечье перетянуто свежим бинтом. И его башка, скворцовская, перебинтована, он это чувствует.
— Кто нас перевязал? — спросил Скворцов.
— Я. И вас и себя.
— А бинты откуда?
— Немцы дали. Солдаты хотели нас добить, а офицер не позволил. Переводчик меня спросил: «Где начальник заставы?» Я показал. Тогда он перевел слова офицера: они мужественные люди, окажите им помощь… Ну, немцы не стали перевязывать, а кинули мне индивидуальные пакеты…
Обессиленный разговором, Скворцов сомкнул веки. Но и с закрытыми глазами он видел: территорию заставы топчут чужие сапоги, стоят чужие танки. Не видеть бы этого, не видеть! Хорошо политруку — мертв. Что же делать ему, лейтенанту Скворцову, бывшему начальнику пограничной заставы? Бывшему — потому что заставы не существует. О, почему гитлеровцы не добили его! Скворцов открыл глаза. И увидел уже не гитлеровцев, а сержанта Лободу. Живой, как и Скворцов. Но белый-белый, видать, крови много потерял. Сидит рядом, горбится, смотрит мимо него. Тщетно ловя взгляд Лободы, Скворцов спросил:
— Что еще переводчик говорил?
— Та ничего, товарищ лейтенант… Улыбался все и дымил сигаретой…
Улыбался? Курил сигарету? Какое это имеет значение для дальнейшей судьбы Скворцова и Лободы? А что имеет? Вот именно — что? Закурить бы. Перед смертью. Тогда, перед последним боем, папироской его снабдил Белянкин. Который застрелился. А Клара стала вдовой. Если бы покончил с собой и Скворцов, то Ира также овдовела бы. Но он еще жив, и Ира еще не вдова. А умереть ему нужно. Иного выхода нету. Снова попробовать разбить башку — о камень, присмотреть такой камешек, чтоб наверняка. Или попадется штык — и в сердце? Или плюнуть в рожу кому-нибудь, и тот пристрелит? А может, просто сдохнуть от ран, от голода? И как решили поступить с ними враги? Обрывки немецкой речи доносились до Скворцова. Он напрягал слух: может, об их будущей судьбе? Ничего не разбирал, хотя кое-что в немецком смыслил: в школе, в училище проходил, на заставе самостоятельно изучал, в основном — по словарю. Скворцов мог бы вспомнить, как майор Лубченков корил его: зачем, мол, для какой такой надобности зубришь немецкий. Он отвечал: знание языка вероятного противника не помешает. Майор не без сожаления удостоверял: вот и проговорился, Скворцов, вот уже и противником нарекаешь, силен, силен, но не вспомнил этого.