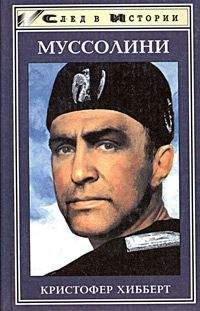Как-то за неделю до начала войны Новиков переходил широкую, мощенную булыжником улицу Бреста; ему встретился немецкий военный, очевидно сотрудник комиссии по репатриации. Новиков вспомнил его нарядную фуражку с окованным металлом козырьком, и эсэсовский мундир цвета стали, и перевязь на руке с черным знаком свастики в белом круге, и худое, надменное лицо, и портфель светло-кремовой кожи, и черное зеркало сапог, на которое не решалась садиться уличная пыль. Он шел странной походкой, печатая шаг, мимо одноэтажных домиков.
Новиков, перейдя улицу, подошел к киоску с сельтерской водой, и пока пожилая еврейка наливала ему стакан фруктового напитка, он подумал и много раз потом вспоминал эту мысль: «Шут!» И тотчас себя поправил: «Сумасшедший!» И вновь себя исправил: «Бандит!»
И он помнил — в эту минуту у него появилось томящее чувство злобы и раздражения.
Новиков помнил, что крестьянин, проезжавший в это время по улице, и женщина, поившая его водой, оба с каким-то одинаковым напряженным выражением следили за нацистским военным чиновником. Может быть, они уже предчувствовали, что вещал этот одинокий вестник зла среди широкой пыльной улицы пограничного советского города.
За три дня до начала войны Новиков обедал с начальником одной погранзаставы. Было необычайно жарко, и марлевые занавески на открытых окнах не шевелились. И вдруг в тишине из-за реки раздался утробный низкий орудийный выстрел, и начальник погранзаставы сердито сказал:
— Соседушка заклятый голос пробует!
Потом, уже в Воронеже, весной 1942 года, Новиков случайно узнал, что спустя пять дней после их совместного обеда этот начальник заставы задержал немцев на шестнадцать часов силой одного лишь пулеметного огня и погиб вместе с женой и двенадцатилетним сыном.
Немцы после вторжения в Грецию проводили воздушно-десантные операции на Крите. Вспоминался ему доклад об этом, слышанный им в штабе. Во многих вопросах после доклада чувствовалась тревога: «Расскажите подробней о потерях германской армии», «Скажите, заметно ли ослабление германской армии?» Одна записка спрашивала прямо: «Товарищ докладчик, успеем ли мы получить от немцев оборудование, если в ближайшее время нарушится торговый договор?»
Он помнил, как ночью после этого доклада сердце его на миг сжалось и ему подумалось: если Россия избегнет военной грозы — это будет чудо, да ведь чудес не бывает! ‹…› {35}
Последняя ночь мира, первая ночь войны!
В эту ночь Новикову нужно было встретиться с командиром бригады тяжелых танков. Новиков находился в танковом полку, дежурный никак не мог соединить его со штабом бригады: связи не было.
Они вдвоем ругали бестолковость телефонистов, недоумевали — обычно телефоны работали отлично.
Новиков поехал на полевой аэродром: у летчиков имелась связь с высшим штабом, и он решил воспользоваться их проводом. Но и у летчиков ни прямой, ни окольной связи не было — произошел множественный порыв на линии. Эти непонятные порывы проводов в тихий летний вечер стали понятны лишь через несколько часов: немцы уже вели войну…
Командир истребительного полка пригласил Новикова в городской театр смотреть постановку «Платон Кречет» {36}. Ехали летчики с женами, некоторые с гостившими отцами и матерями, в автобусе имелись свободные места. Но Новиков отказался, он решил поехать в бригаду.
Ночь была лунная, теплая, пустынное шоссе казалось белым среди темных приземистых лип. Когда Новиков сел в машину, из ярко освещенного, широко открытого окна раздался голос дежурного:
— Товарищ подполковник, связь есть!
Слышно было плохо, но Новикову удалось поговорить — командир бригады уехал на техническую базу, куда ушли танки для осмотра и смены моторов, и вернется лишь на следующий день вечером. Новиков решил ночевать у летчиков. Он попросил устроить ему ночлег, и дежурный улыбнулся: «Места хватит!» — штаб стоял в большом помещичьем доме.
Дежурный провел его в огромную комнату, освещенную яркой трехсотсвечовой лампочкой. У отделанной резной панелью стены стояли железная кровать, табурет и тумбочка.
Не вязались с роскошью отделанных дубом стен и лепного потолка эта узенькая солдатская кровать и фанерная казарменная тумбочка. Он обратил внимание, что в хрустальной люстре не было ламп и рядом с люстрой спускался шнур с патроном.
Новиков пошел поужинать в столовую — просторный, высокий зал. В столовой было пусто, и лишь за крайним столиком два политработника ели сметану. Ужин оказался очень обильным, но Новиков, который не был равнодушен к соблазнам кухни, едва съел половину того, что принесла ему официантка, девушка с окающей нижегородской речью. Котлеты с жареной картошкой она принесла в эмалированной миске, а налистник со сметаной — в фарфоровой тарелке с золоченым ободком, с изображением пастушки в розовом платье, окруженной белыми овечками. Квас ему подали в голубом бокале, а чай в новенькой алюминиевой кружке, обжигавшей губы.
— Что это у вас пусто в столовой? — спросил он у официантки.
— А у нас тут многие семейные; у всех жены и ребята,— сказала девушка.— Одни сами готовят, другие домой берут.
Она подняла палец и с милой улыбкой чистого и наивного существа вдруг сказала:
— Некоторые девушки-официантки говорят: «Нам это не нравится — молодые семью и детей имеют», а я считаю: хорошо! И нам тут прямо как дома, у отца с мамой.
Она произнесла эту фразу запальчиво, горячо, видимо желая сочувствия своим мыслям, может быть, она вела об этом спор с подругой на кухне. Потом она снова подошла к Новикову и испуганно сказала:
— Что ж вы ничего не кушали, невкусно у нас? — И, наклонясь, доверительно прибавила: — Вы к нам, товарищ подполковник, надолго? Завтра, смотрите, не уезжайте, у нас в воскресенье обед будет ой! Мороженое, и на первое щи кислые, из Слуцка сегодня бочку кислой капусты привезли. А то летчики обижались, что щей давно нет.
Она дышала ему в щеку, и глаза ее блестели. Не будь в них доверчивого, ребячьего выражения, Новикова бы не растрогал доверительный шепот волжской девушки — он бы его принял за заигрывание.
Спать не хотелось, и он пошел в сад.
Широкие каменные ступени казались ему при лунном свете мраморно-белыми. Тишина стояла совершенная, необычайная какая-то. Деревья словно погрузились в прозрачный пруд — таким неподвижным был светлый воздух.
Странный, смешанный свет луны и зари самого долгого дня года стоял в небе. На востоке угадывалось мутное светлое пятно, а запад едва розовел. Небо было беловатое, мутное, с синевой.
Каждый лист на ветвях был резко очерчен, казался вырубленным из черного камня, а вся громада кленов и лип представлялась плоским черным узором на светлом небе. Красота мира переступила в эту ночь свой высший предел, и люди уже не могли не замечать ее и не думать о ней. Это торжество красоты наступает, когда не только праздный человек останавливается, пораженный открывшейся ему картиной, но и отработавший смену рабочий, путник со сбитыми ногами вдруг, забывая усталость, медленным взором охватывают небо и землю.
В такие минуты человек не ощущает по отдельности света, простора, шороха, тишины, тепла, сладких запахов, касания травы и листьев — всех сотен, а может быть, тысяч и миллионов частей, слагающих красоту мира.
Такая красота — истинная красота и лишь об одном говорит человеку: жизнь — благо.
И Новиков все ходил по саду, останавливался, оглядывался, присаживался, вновь ходил, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, охваченный бессознательной печалью о том, что красота этого мира живет, не делясь своей долговечностью с людьми.
Придя в комнату, он разделся и в носках подошел к лампочке, стал вывинчивать ее из патрона — лампочка нагрелась, жгла пальцы,— и он взял со стола газету, чтобы обернуть ею лампу.
К нему вернулись обычные мысли о завтрашнем дне, об отчете, который он почти закончил и вскоре повезет в штаб округа, о том, что следует сменить перед отъездом аккумулятор у машины и что удобнее всего сделать это на рембазе танкового корпуса.
Уже в темноте он снова подошел к окну и мельком, рассеянно поглядел на сад, на небо — им уже владели обычные житейские мысли. Он не раз вспоминал потом именно об этом уже безразличном, сонном и рассеянном настроении, с которым оглядел тихий, ночной сад,— последний взгляд на мирное время.
Он проснулся с точным сознанием происшедшего несчастья, но совершенно не представляя себе, в чем оно.
Он увидел паркет в алебастровой крошке и сверкавшие оранжевыми отблесками хрустальные подвески люстры.
Он увидел грязно-красное небо в черных клочьях дыма.
Он услышал женский плач, вопль ворон и галок, грохот, колебавший стены, и одновременно услышал слабый, ноющий звук в небе, и хотя этот ноющий звук был самым мелодичным и тихим из всех звуков, наполняющих воздух, именно он заставил Новикова инстинктивно содрогнуться, вскочить с кровати.