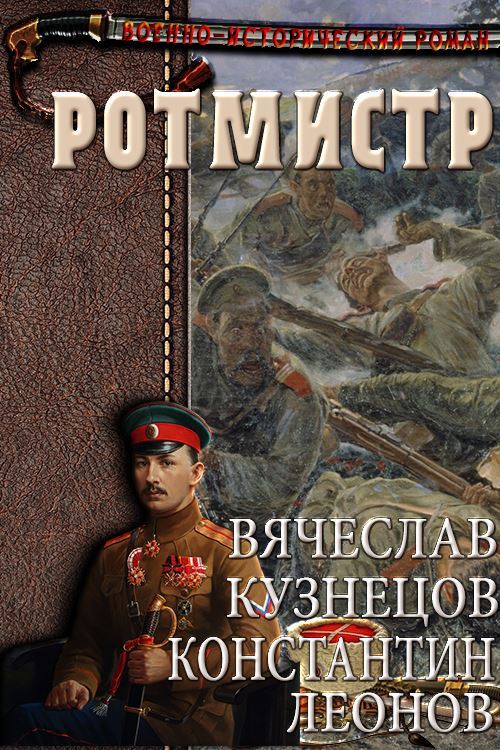ладно, пошли уже…
* * *
Гуляков обходит пыхтящий паровоз и оказывается в эпицентре гвалта, состоящего из криков продавцов газет, воплей бабок-мешочниц, рыканья красноармейских патрулей. Гуляков никак не выделяется из общей массы вокзального московского народа образца января 1919 года — в длиннополой шинели, на плече — вещмешок, вот только на голове офицерская фуражка без кокарды.
На здании вокзала метель рвет транспарант с изображением черепа и словами: «Смерть буржуазии и ея прихвостням! Да здравствует Красный Террор!»
Террора долго ждать не приходится: к Гулякову подходят двое патрульных — мужчина постарше в кожанке с револьвером в поясной кобуре и молодой парень в ватнике с винтовкой на плече.
— Документы предъявим-ка.
Гуляков подает бумагу, старший довольно бойко читает вслух:
«Податель сего военспец Гуляков следует за назначением.
Комбриг Негоруйко».
Он возвращает бумагу.
— Из бывших будем?
— Из них.
Патрульный с многозначительным равнодушием глядит на вещмешок. Гуляков, не дожидаясь приказа, развязывает лямки — белье, офицерский кортик, буханка хлеба, десятка полтора банок консервов.
Патрульный постарше плотоядно оживляется:
— Так, оружие везем, еще назначения не получимши…
При этом на его лице отражается напряженный умственный труд по пересчету банок. Гуляков подает одну. Патрульный пожимает плечами, что можно перевести как «что за хреновня?» Гуляков кидает ему вторую. Мужик профессиональным жестом рассовывает жестянки по карманам кожанки.
— Ты только не зарежь никого, — напутствует патрульный, — а то споймаю и все консервы отыму…
Утробно смеется, распространяя аромат чеснока.
— Ты куда сейчас?
— В ботанический сад университета.
Патрульный поражен больше, чем если бы Гуляков объявил о желании сходить в морг:
— За какой такой нуждой?
— Я же не спрашиваю, за какой нуждой тебе мои консервы…
Он попал из зимы в лето: с верхних ярусов теплицы свисают лианы и еще каике-то вьющиеся стебли, повсюду — пиршество растений: кадки, бочонки, кастрюльки, ведра с кустами и кустиками, цветами и цветочками. В этой сельве он не сразу замечает маленький столик и женщину в ватнике. Из алюминиевой кружки она отхлебывает чай, а на кружевной салфетке перед ней — вобла.
Гуляков, кажется, сам удивлен несуразности своей просьбы:
— Здравствуйте. Мне нужны розы, вы не поможете?
Женщина изумляется больше, чем если бы у нее попросили патронов:
— Здравствуйте. Что вы сказали? Гражданин, пардон, товарищ, вы не изымаете, а просите? С каких это пор? Ведь уже все вынесли, от тяпок до удобрений. А розы-то зачем революции понадобились?
Гуляков снимает с плеча вещмешок, ставит под ноги, в нем глухо звякают банки.
— Мне очень нужны цветы, очень. Я могу дать за них консервов…
Смотрительница аккуратно завертывает остатки воблы в салфетку, встает и гордо сообщает:
— У нас собраны уникальные растения, семена со всего мира свозились, нашей коллекции завидуют в Женеве и Барселоне. А впрочем, какая разница теперь…
Она устало присаживается на табурет, опустив между коленей натруженные и одновременно интеллигентно-ухоженные руки.
— Вы, кажется, не из нынешних? Жизнь заставила в людях разбираться. И вы недавно в Москве. Иначе не ходили бы в офицерской фуражке.
Гуляков достает из мешка две банки, потом добавляет еще две.
— Я с вокзала к вам сразу.
Женщина понижает голос:
— Тогда вы еще не представляете ничего. Здесь просто ужас, Голгофа! Жизнь стоит меньше, чем вон тот чертополох. Уцелевших зверей в зоосаду человечиной кормят! Архиепископа Андроника живьем в землю закопали. «Изверги рода человеческого» — вон как допекли Патриарха Тихона, добрейший пастырь, а такие слова ужасные произнес. Погодите, я поищу вам что-нибудь на голову…
Она встает, открывает сундук, роется в нем и продолжает шепотом:
— Наш последний садовник вчера сбежал. Его товарищи в баке с купоросом обещали растворить как гниду несознательную — на фронт не захотел пойти, у него трое детей. Сбежал, в чем был. И от него, кажется, картуз остался…
Гуляков останавливает ее:
— Не беспокойтесь, я смогу за себя постоять.
— Ну, как знаете. На вас — печать обреченности. Огорчу вас: розы не цветут сейчас даже в теплице. Вам для женщины? Удивительно просто. Пойдемте со мной, посмотрим, что осталось из растений. Заберете что-нибудь. Пусть хоть кому-то радость будет…
* * *
Гуляков шаркает по заснеженному тротуару, бережно обнимая большой горшок с кактусом — длинный, метровый примерно, причудливо изогнутый ствол украшают с десяток усыпанных иголками серпообразных мясистых листьев. Редкие прохожие с удивлением оборачиваются.
Возле какого-то кабака у края проезжей части стоят розвальни со свисающими на снег космами соломы. Возница — толстый флегматичный мужик в армяке — поправляет лошадиную сбрую, тихо матерясь.
— На угол Лукова переулка и Рыбникова не доставишь?
Гуляков кидает вознице вещмешок.
— Там консервы, возьми в оплату.
Дед рад нежданному ужину:
— Годится, домчим, как на ероплане!
Розвальни от усилия тщедушной лошадки, огретой кнутом, с трудом сдвигаются с места и со скрипом ползут, теряя пуки соломы.
Гуляков кутает не привычное к холоду растение в свой башлык. Из-за угла, из снежной закрути, вываливается колонна разномастно одетой молодежи, орущей хором:
За советское правленье
Буйну голову сложу,
Я милее этой власти
Никакой не нахожу!
Колонна равняется с розвальнями, крайние молодые люди сурово едят глазами Гулякова, так и не снявшего офицерской фуражки, обнимающего горшок с экзотическим растением — более настораживающей революционное сознание картины и не придумать. Возница вжимает голову в плечи.
Колонна подходит к зданию, на фасаде которого багровеет плакат: «Не о рае Христовом ору я вам». Маяковский, «Мистерия-Буфф». Постановка Мейерхольда». Молодые люди гуськом тянутся в двери. Задние все еще оборачиваются на подозрительного офицера, переговариваясь между собой на тему о том, что до начала времени мало, а то хорошо бы пощупать эту контру за колючки.
Гуляков, умудрившийся одной рукой раскрыть портсигар и сунуть папиросу в рот, интересуется у деда:
— Кто такие были?
Мужик нещадно стегает лошаденку, заставляя ее ускориться и свернуть в ближайший переулок:
— Да это бесы…
К розвальням подскакивает беспризорник и бежит рядом:
— Военный, дай дерево, ты ж убитый будешь.
— А тебе оно зачем, обормот?
— Буржуям продам, булку куплю.
Возница все еще озирается, загнав лошадь в какие-то совсем уж кривые переулки возле Моховой:
— Ты, мил человек, видать, приезжий. Так вот, как увидишь таких с песнями — сразу ныкайся куда-нибудь. Это ж юная гвардия. Под Рождество шабаш устраивали — суд над богами. Чучело Христа спалили…
Оглянувшись по сторонам, дед мелко кресс-тится.
— Меня на Тверской споймали. Заставили грузиться иконами и поповскими книгами. Их они на площади жгли. А мне вместо расчета навешали — мама не горюй, до сих