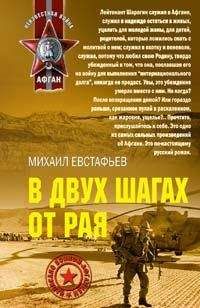Он должен был чувствовать себя победителем, вернее сказать освободителем, человеком, спасшим тысячи жизней. Но ничего подобного Моргульцев не испытывал. Напротив, его охватил страх: незнакомые черные бородатые люди наблюдали сквозь решетки за советским офицером. Моргульцев вздрогнул.
Освободили! Спасли! А кого? Что там за люди? Против кого бунтовали? За что поплатились? Не уголовники ли? Поди разбери, бляха-муха! Язык – чужой, лица – подозрительные. Спасли, освободили, а что теперь? Не брататься же с ними! Какие они, к черту, друзья! Пусть до поры до времени посидят по камерам! Так спокойней! Так – верней! Пусть те, кто знает, что к чему, разбираются, решают, кого выпускать, а кого – нет! Мое дело малое. Задачу выполнили. Коли у нас бы такое произошло, если б, к примеру, революционеров освободить из тюрем… Тогда понятно. Это святое дело! А здесь…
– Никого из камер не выпускать! – предупредил он солдат. – Раненые есть?
– В нашем отделении нет, товарищ лейтенант.
– А где третье отделение?
– Не знаю, товарищ лейтенант, – пожал плечами боец.
Третье отделение на боевой машине десанта провалилось в яму с дерьмом. Ворвавшись на территорию тюрьмы, вторая БМД взяла влево, и, не разглядев в суматохе, куда рулить, плюхнулась в темную жижу. Выхлопные газы пошли в кабину, солдатня начала задыхаться. Нашли их совершенно случайно и очень вовремя. Заметили торчащую из вонючей ямы башню.
– Засранцы! – негодовал Моргульцев. – Не десантники, а форменные засранцы!
Захват Пули Чархи продолжался меньше часа, пятьдесят четыре минуты. Моргульцев засек по своим «командирским» часам.
Доложил по рации: «Объект 14 взят!»
Дядя Федя уехал в Кабул, вернулся с афганскими «товарищами», занялся сортировкой заключенных.
Взводу Моргульцева по рации из штаба приказали: «Оставаться на охране объекта. Продовольствие и боеприпасы вам подвезут».
Выставили посты, заняли под казарму самое теплое помещение с печкой, работавшей на солярке, занавесили одеялами выбитые стрельбой окна.
Моргульцев грелся на солнышке, первый раз увидел он здесь солнце, курил.
– Товарищ лейтенант. Там журналисты приехали, говорят с советского телевидения. Пустить?
– Валяй, пусть сюда идут.
– Там еще афганцев много.
– Каких афганцев?
– Человек триста, поди будет.
– Т-а-к, – растянул Моргульцев, и повторил любимое дяди Федино: – Бляха-муха! Что им, интересно, здесь надо?
Впускать кого-либо в тюрьму Моргульцев наотрез отказался, связался со штабом, долго ждал разъяснений. Береженого Бог бережет!
– Я на себя ответственность не возьму! Присылайте представителя из штаба! Тогда пущу!
– Телевидение должно заснять взятие тюрьмы Пули Чархи, – разъяснил приехавший полковник.
– Это мы запросто, сейчас свистну своих гавриков.
– Вы не понимаете, товарищ лейтенант. Тюрьму захватывали афганские военнослужащие, из частей, которые подняли мятеж против кровавого режима предателя Амина!
– Не понял, товарищ полковник?!
– Я, кажется, достаточно ясно объяснил, лейтенант!
Со сторожевой вышки, куда он было взобрался, чтобы наблюдать за съемками, Моргульцева согнали – не должен был советский офицер попадать в кадр. Тогда он приказал солдатам вынести из кабинета начальника тюрьмы кресло, устроился, как в первом ряду.
– Поди потом кому докажи, что это мы Пули Чархи захватывали, – расстроился кто-то из солдат. – Никто не поверит!..
– Это точно, бляха-муха! – обиженно подтвердил Моргульцев.
С дядей Федей свидеться больше не пришлось, говорили, погиб он через несколько месяцев. Где? При каких обстоятельствах? Никто толком не знал. «Может врут, что погиб, а может и впрямь убили. Он же комитетчик. У них никогда правду не узнаешь…» – решил Моргульцев.
В первые годы войны вообще страшно было задавать вопросы, опасались люди всего. Однажды после ранения Моргульцев в госпитале лежал, спирт пил с одним капитаном. Черноволосый, загорелый, то ли татарин, то ли таджик. Нос запомнил – длинный, переломанный в нескольких местах.
Крепко тяпнули. Разоткровенничались по пьяни, кто да где был, кто да что делал в Афгане. Оказывается, обоих судьба забросила в Кабул в декабре 1979 года. Походили вокруг да около, да, не сговариваясь, решили не темнить.
– Я тюрьму брал, – признался Моргульцев. – Пули Чархи. А ты?
– А я – дворец…
– Дворец Амина?! – Моргульцев даже поперхнулся. Глянул на капитана, а тот опустил голову, смотрит куда-то себе под ноги. И так и не поднял глаза, когда подтвердил:
– Так точно.
Про дворец Амина ходили разные слухи. И девятая рота из Витебской дивизии вроде как участвовала в штурме, и КГБэшники якобы присылали спецгруппу.
Разлили остатки спирта, чокнулись: «ну, будем», выдохнули почти одновременно, запрокинув головы, влили в себя, занюхали черным хлебом.
– Я в «мусульманском батальоне» служил, – продолжил после паузы капитан. – Слышал такое название?
– Слышал, – соврал Моргульцев. Решил не расспрашивать, что это за странное название. Какая-то спецчасть, наверняка. – И самого Амина видел?
– Видел… только мертвым…
–?..
Собеседник замолчал, взвешивая все за и против.
– Он лежал на полу в майке, в одних трусах, на груди в районе сердца было большое красное пятно. Надо было убедиться, что он мертв. Потянули за левую руку, а она оторвалась…
Моргульцева пот прошиб. «Зачем он мне это рассказывает? Зачем я ему про тюрьму брякнул? Молчать надо было, молчать!»
Уснуть не смог, слова капитана из «мусульманского батальона» вселяли тревогу:
– Страшно было. И во время штурма, мы ведь прямо как на ладони у них были, стреляй – не хочу, чудом прорвались, и особенно потом, когда поняли, что произошло. Как-никак, главу государства устранили! Посадили нас в самолет, думали, не долетим. Кто из знает?.. Казалось, что теперь свои же могут отравить. Зачем оставлять свидетелей? Расформировали нас, разослали по разным частям…
За завтраком трещала голова, глаза слипались. Моргульцев поздоровался с капитаном, а тот отвернулся, сделал вид, что незнаком. «Наболтал лишнего!» Пообещал тогда себе Моргульцев, что молчать отныне будет. Нечего гордиться, нечего про тюрьму бахвалиться!
За Пули Чархи представили Моргульцева к ордену «Красного знамени». Старшего лейтенанта получил досрочно. Сыну третий год шел. И как будто кто сглазил! Повалилось все из рук, рассыпаться стала доселе ровно складывавшаяся жизнь, словно поднялся он на горку и не удержался, под откос покатился. Сперва жена ушла. Появился у нее кто-то, еще пока в Афгане служил Моргульцев. Не из части, гражданский, увез из Витебска.
Моргульцев запил, зачастили нарекания от комбата, служба радости не приносила, политотдел на психику давил, воспитывал. Он по молодости резким был, вспыльчивым, все больше посылал на три буквы, по морде заехать торопился, прежде чем подумать, кого посылаешь и кому кулаком нос разбиваешь. Вскоре ЧП на его голову приключилось: дедушки до полусмерти новичка забили.
Несколько лет ушло на то, чтобы все выправить. Женился второй раз, дочь родилась. Снова в Афган попросился.
Про семейные передряги ротный сослуживцам не рассказывал, но они и так знали. Кто развелся, кто вновь женился, у кого где дети остались – в армии ничего не скроешь.
В комнате Моргульцева висел рисунок сына от первого брака. Раз в месяц он писал ему короткие записки, отправлявшихся в отпуск офицеров просил зайти в Союзе на почту и отправить небольшую посылку с подарками. Мальчишка нарисовал самолеты-птицы, сбрасывающие бомбы-сосульки, горящие танки-букашки со свастикой на броне, на которые наступали танки с красными звездами, бегущих между взрывами бомб человечков с автоматами. В правом углу сын написал печатными буквами: «Это я сам рисовал папа пришли мне пажалуста жвачку»…
* * *
Дни летели незаметно, скапливались в недели, месяцы. Рейды, боевые, ранения и смерть офицеров и солдат – он подстраивался под афганский ритм, превращавший каждую оборвавшуюся судьбу в нечто прозаичное; смерть бывала нелепой, трагичной, героической, но более не ужасала Шарагина, как раньше, в первые месяцы; смерть стала делом обыденным, воспринималась как одно из условий войны.
Шарагин выловил в стакане водки две новые звездочки, когда обмывал очередное звание – старший лейтенант. Оформили наградной. Подписал бумагу Моргульцев, взглянул лукаво и как-то между прочим, поинтересовался:
– Любишь потных женщин и теплую водку?
– Смеешься?!
– Значит в отпуск пойдешь зимой!
– Как зимой? – расстроился Шарагин. – Да ты что!
– Надо же кого-то отправлять.
– Но меня-то за что?!
– Зебрев уже был. Епимахову – рано. Пусть втягивается. Значит, тебе остается ехать. Твоя очередь.
– Давай, может, потом, а? Ближе к весне?!
– Потом будет суп с котом, бляха-муха! Свободны, та-ва-рищ старший лейтенант!