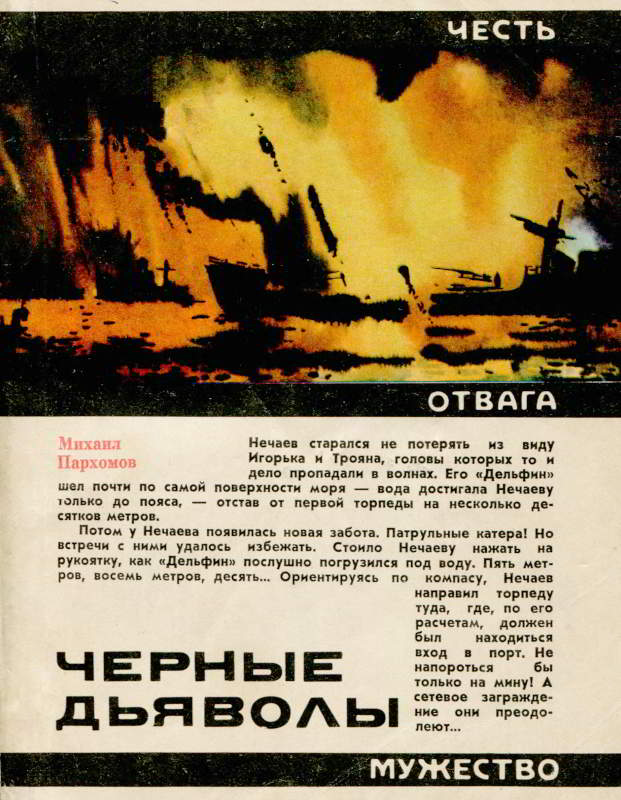не разъединяли людей. Ответственность за себя и за товарищей делала каждого сосредоточенным, мудро-спокойным. Опасность? Что ж, если хлынет вода, вахтенные отсека наглухо задраят люк и будут отстаивать свою жизнь внутри этого наглухо закрытого отсека. Так надо! Они пустят сжатый воздух, чтобы постараться задержать воду и попытаться заделать пробоину. Но если это им не удастся, они молча погибнут, как подобает морякам, чтобы ценой своих жизней спасти лодку и товарищей. Так надо. Таков нерушимый закон подводников, закон морского братства.
Но о смерти никто не думал.
Сменялись дни и ночи. Пересекая море, лодка шла под перископом. Она всплывала только по ночам. И то лишь на несколько часов, необходимых для того, чтобы зарядить аккумуляторную батарею. В перископ видна была бесконечная вода. Волны перекатывались через перископ, закрывали горизонт непроницаемой зеленью. Но через мгновение в поле зрения снова возникали белые барашки — море было пустынно той зловещей пустынностью, которая постоянно напоминает об опасности.
Внизу, в крохотной штурманской каюте-клетушке, горбился над широкой навигационной картой, свисавшей со столика, хмурый штурман. Лодка должна была выйти к берегу в точно назначенном месте и точно в срок. Оттого штурман и не разгибал спины. Только когда командир, в который раз уже подняв перископ, приказал записать в вахтенный журнал одну-единственную короткую фразу «Прямо по курсу берег», штурман смог наконец отложить карандаш. Как он ждал этих слов!
Берег, чужой берег…
Он стлался над линией горизонта едва заметной темной полоской. Лодка подошла к нему близко, гораздо ближе, чем могли предполагать наблюдатели береговых батарей и курсирующих вдоль берега немецких самолетов. И в этой дерзкой близости от берега, почти вплотную к нему, экипаж лодки приступил к выполнению боевого задания. Что это, разведка бухт и заливов? А может, наблюдение за кораблями противника?.. Об этом люди могли только догадываться. Но они, естественно, не могли не думать о том, что творится на чужом берегу.
А берег был совсем близко. Склоны гор, покрытые виноградниками, деревья, нагромождения каменных глыб, прилепившиеся к скалам домишки. Лодка осторожно всплыла только после того, как сгустилась темнота и на берегу замигали огоньки. С мостика лодки уже можно было разглядеть вражеские корабли.
И вдруг — прожекторы, грохот…
Пришлось уйти на большую глубину, двигаться медленно, вслепую — о том, чтобы всплыть хотя бы под перископ, не могло быть речи. В отсеках стало душно. Но эти часы глубокого погружения были для всех и часами отдыха. На лодке царила полная тишина. Люди старались меньше говорить и двигаться — берегли кислород. Теснота, все заполнено десятками приборов, все рассчитано на сантиметры, и нельзя сделать лишнего шага, лишнего движения…
Наконец в кают-компанию вошел командир. Он присел к столу и жадными глотками выпил кофе.
— Вырвались, — сказал он с облегчением. — Нам и на этот раз удалось уйти.
Чего стоило это признание!.. Командир мгновенно заснул тут же за столом. Он спал, уронив голову на руки, и матросы осторожно, чтобы не задеть, не потревожить, проходили мимо него на вахту.
А когда рассвело, лодка уже снова была в открытом море. Берега не видно, и вахтенный командир тщательно обшаривал глазами горизонт. Через некоторое время он доложил:
— На горизонте силуэт корабля!
— Запишите в вахтенный журнал, — сказал командир лодки. — Вспомогательное судно. — Потом он скомандовал: — Право на борт. Курс триста пять!
Лодка, прибавив ход, резко изменила курс. Командир, который успел отдохнуть, теперь не покидал центральный пост. Встреча с противником не входила в его планы. В другое время он приказал бы приготовиться к всплытию и орудийный расчет занял бы свои места. Но теперь… Лодка получила особое задание. И командир решительно приказал:
— Срочное погружение!
Вахтенные, которые были наверху, скользнув на руках, мгновенно скатились вниз. Звенел сигнал погружения. Стрелка глубиномера стремительно падала, прыгала с цифры на цифру. 5 — 10–15 — 20 метров… Лица вахтенных были напряжены.
Так прошло минут тридцать-сорок. Сердце стучало часто и громко. Нет, не заметили… Выждав еще какое-то время, лодка осторожно всплыла. Вода дошла до мостика, покинула его, и командир открыл над своей головой тяжелый люк.
Над ним было ночное небо.
В тесном узком отсеке не было ни теплых вечерних сумерек, ни прохладных рассветов. Здесь день ничем не отличался от ночи — во все щели проникал ровный электрический свет.
Счет времени шел только на часы. Стрелки уже много раз обежали круглый циферблат с двадцатью четырьмя делениями, и казалось, будто они мечутся в поисках выхода.
Часы висели над головой, под самым подволоком.
Когда появлялся вахтенный, то было видно, как в соседнем шестом отсеке колдуют электрики. Рабочая дрожь моторов передавалась переборкам, тарелкам, рукам… Вахтенный гремел посудой. Хотя его подмывало спросить, что эти четверо поделывают на борту, он, памятуя наказ командира, ограничивался тем, что подмигивал Гришке Трояну, которого, очевидно, принимал за старшего.
Но вахтенный скоро уходил, и они снова надолго оставались вчетвером: Нечаев, веснушчатый Игорек, Гришка Троян и Сеня-Сенечка. Тюки со снаряжением лежали тут же.
«Де твоето момиче?»
Если бы Нечаев знал!.. Аннушка была далеко. Он видел ее такой, какой она была в последний предвоенный вечер, когда щеголяла в его бескозырке, и не мог представить себе, что она может быть какой-то другой. Он старался не думать о войне, которая была вокруг. Мыслями он все время возвращался в прошлое, но память его была не в ладах с хронологией, и он видел то Аннушку, то мать, то Гасовского и Белкина, продолжавших воевать за Пересыпью, то дружков с улицы Пастера (где они теперь?), то Костю Арабаджи, которого он должен был все-таки разбудить… Он знал, что Костя ему никогда не простит этого. Увидев утром пустые койки, тот наверняка психанул. С каких это пор, спрашивается, ему перестали доверять?
Думая о них, Нечаев видел их всех так ясно, словно они были рядом, в этом же отсеке. Они были ему очень дороги, он только сейчас понял это. А люди, которые тебе дороги, всегда с тобой.
Ему было двадцать лет. Школа, пионерский галстук, «милая картошка», которой низко бьют челом, водная станция, служба… Через два месяца ему стукнет двадцать один. А там… Но, думая