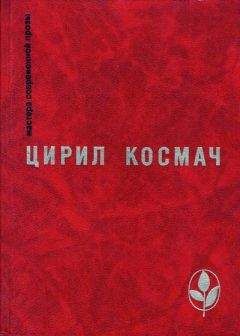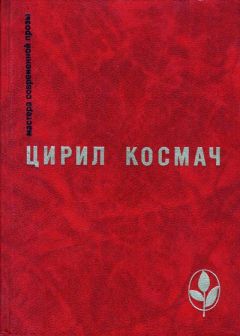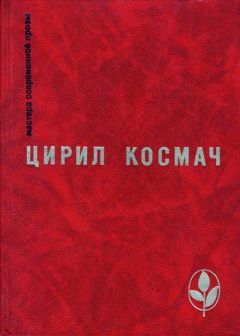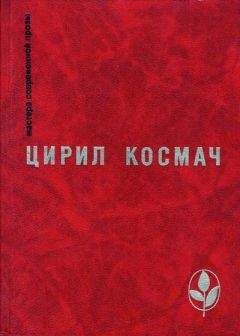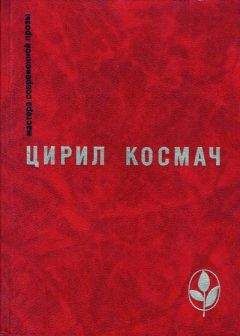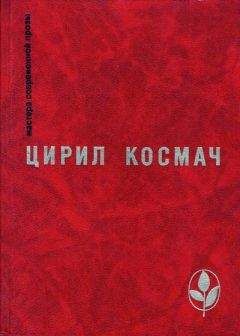В горнице стало тихо. Стрмар опустил глаза, у Тестена рука замерла на бутылке, которую он собрался придвинуть к себе, только Юльчек как ни в чем не бывало разглаживал свою бумагу.
Дед зашатался, точно ноги ему отказали, ухватился за угол печи и медленно сел на сундук. Он вытянул из кармана красный платок и начал вытирать свой большой лоб цвета старинной слоновой кости.
Стрмар решил, что дед побежден. Он ткнул пальцем в мою сторону и сказал басом, в котором звучало сочувствие:
— Парень, покличь-ка мать.
Я не стронулся с места, пока дед не глянул на меня и не загремел:
— Ты что, глухой?!
Я выскочил на кухню за мамой.
— Нанца, — все так же басом проговорил Стрмар, — тут такое дело — придется отдать коров…
— Хоть одну-то оставьте! — попросила мама.
— Одну?.. — злобно протянул дед, смерив ее с головы до ног взглядом, полным безграничного презрения. — Сразу видать, что ты из бедного дома! Для тебя и одна корова — корова!
Он встал и выпрямился, его седая голова коснулась поперечной балки черного от времени потолка.
— Подписывай, подписывай! Подпишешь смертный приговор этим! — пророчески указал он на нас, детей, в страхе жавшихся у сундука. И вышел, с такой силой грохнув дверью, что в буфете задребезжала посуда.
Мы подняли плач; мама не попыталась утешить нас ни единым словом. Только взяла на руки полугодовалого братишку, которого напугала дедова ярость, — он орал благим матом.
— Распишитесь вот тут, — сказал Юльчек и подвинул к маме измятую бумагу.
Мама вздохнула, видимо, ей хотелось что-то сказать, но она раздумала и поставила свою подпись на документе.
— …Так, правильно… А теперь и мы подпишемся, — удовлетворенно промурлыкал себе под нос Юльчек и стал готовиться к изображению своей превосходительной подписи: посмотрел перо на свет, почиркал им по ногтю большого пальца, поёрзав локтями по столу, отыскал правильное положение рук, пригнул голову к плечу, высунул кончик языка и только после этого приступил к свершению торжественного акта. Стрмар и Тестен не стали дожидаться, пока Юльчек кончит свою подпись, то есть выведет все виньетки и завитушки, на которых важный и значительный «Юлиус Рот» возлежал, как на мягких, упругих пружинах. Они встали, ободряюще похлопали маму по плечу и ушли, не говоря ни слова, как с похорон. Юльчек с пером в руках заковылял за ними.
Мы сгрудились у окна, прижавшись к маме, и ждали. Сначала из хлева вывели Лыску, потом Мавру, Сивку и Розу. Непривычные к чужим людям, чужим голосам и чужим рукам, они вырывались и смятенно вертели головами. Больше всех упиралась Роза, первотелка, сильная и молодая. Она бросилась к дому, волоча за собой Мартина, так что он споткнулся о колоду и полетел. Ах, как пламенно я желал, чтоб он все себе переломал и расшибся! Но Мартин был крепок и неуступчив. Он даже не выпустил из рук цепь, на которой вел Розу, проворно поднялся на ноги и изо всей силы ударил ее цепью по голове. Я стукнул по стеклу и проскрежетал:
— Не смей, гад ползучий!
— Но-но! Это еще что? — строго прикрикнула мама и дернула меня за вихор. Я не противился. Я молча глядел, как наши коровы шли по саду, скрылись за ольшаником, снова показались на Просеке и потом навсегда исчезли за ветлами.
Мама вздохнула, еще раз просмотрела расписку, сложила ее и засунула за образ святого Андрея, куда убирались все официальные бумаги.
В доме и вокруг него поселилась тишина. Молчал опустелый хлев, молчание воцарилось между дедом и мамой. Подули холодные, резкие ветры, нагнали мокрых туч, и зарядили осенние дожди. Мы, дети, лезли в кухню, жались к очагу, грели у огня красные, промерзшие ноги. Дед понял, что теперь самое время помириться с мамой, и затопил лечь. С какой радостью мы переселились в горницу и встретили первый день в натопленном доме! Мы лежали на горячей печи, а дед сидел в запечке, причмокивая, затягивался трубкой и слушал мое спотыкающееся чтение житий святых. На дворе лил дождь, издали доносился глухой гул, точно по горным склонам катились большие камни и бухали о гигантскую бочку, порождая долгое эхо. На фронте вдоль Сочи шли бои. Дед то и дело задремывал. Тогда я подымал глаза от книги и всматривался в запотевшее окно. По долине вровень с берегами несла свои воды прибывшая от дождей Идрийца, мутная и густая, раздавшаяся вширь, властная и спесивая, но прекрасная, как благородное животное. Мимо дома с шумом и криком тянулся военный обоз — неуклюжие, большие, крытые брезентом, никогда не виданные у нас равнинные фургоны на высоких колесах. Возле нашего хлева, где река уже залила проселочную дорогу, им приходилось въезжать на горку. Солдаты соскакивали на землю, не разуваясь, лезли в воду и, крича и ругаясь, подталкивали возы. Под вечер один фургон перевернулся. Мы, ребята, так пронзительно заорали, что дед тотчас проснулся. Мы бросились к окну. Вода там, у хлева, была неглубокой, так что солдатам удалось быстро выпрячь коней; по воде плавали мешки.
— Святый боже, да ведь это хлеб! — вскричал дед и выбежал из дому. Мы кинулись следом за ним, ибо и нам казалось неслыханным делом, чтобы хлеб мок в грязной речной воде.
У перевернутого фургона, который солдаты с проклятиями подымали на колеса, стоял кадет в дождевом плаще. Это был худой и бледный, но красивый юноша. Размахивая белыми руками в сверкающих перстнях, он отдавал приказания неокрепшим, мальчишеским голосом и изо всех сил старался казаться строгим, хотя было видно, что солдаты слушаются его, только снисходя к его молодости, а не из уважения или страха. Дед подергал его за рукав, показал на мешки, перевертываемые и уносимые течением, и, одновременно прося и укоряя, забубнил:
— Хлеб… Komis… Brot…[21] Хлеб… Brot, Brot…
Кадет недоуменно уставился на него и некоторое время не мог понять смысла дедовых заклинаний. Наконец, догадавшись, в чем дело, он великодушно усмехнулся и показал пальцем сначала на деда, потом на мешки и на наш дом — мол, вытаскивай мешки на берег и неси домой.
Дед, не медля ни секунды, полез в воду. Прежде чем он выволок на сушу первый мешок, прибежала мама и кинулась к нему:
— Отец, вы простудитесь! Пустите, я сама.
— А ну-ка, убирайся! Прочь! Немедленно! — зашумел дед, но звучало это ласково, счастливо и гордо. — Простужусь? Это я-то? Да я, как говорится, в воде родился! И в мои годы кости уже все равно что деревянные. А хоть бы и простудился. Эка невидаль! А вот тебе… да что мне тебя учить, сама знаешь, что женщине не след лазить в воду об эту пору… Ну, чего стоишь? Кошелки неси, корзины, мешки, сумки. И простыню. Простыню!..
— Простыню!.. Ну да, конечно! Простыню. Чтобы на берегу разостлать. Простыню, — повторила совсем растерявшаяся от счастья мама, взмахнула руками и нагнулась, как бы уже расстилая простыню.
— Ясно! Не выкладывать же нам хлеб на грязную траву, — благодушно подтвердил дед, осторожно ставя выловленные мешки на берег. — Да печь затопи! Дров-то побольше наложи! Буковых поленьев, чтоб она как следует накалилась. Из хлеба насушим сухарей и уберем в амбар. Все четыре закрома засыплем. До весны хватит. Да что я говорю? До лета! А может, и до осени. Зря транжирить не будем.
— Нет, нет. Не будем, — истово поддержала его мама.
Солдаты поставили повозку на колеса, дед пожал руку кадету и при помощи жестов и пяти-шести известных ему немецких и хорватских слов попытался пригласить его зайти, когда он будет поблизости.
— Ано, ано! — согласился кадет.
— Ано? — насторожился дед и вопросительно посмотрел на маму.
— Бог знает, что он говорит, — пожала она плечами. — Может, знаком с нашей Анной?
При этих словах кадет расхохотался, поняв суть недоразумения.
— Чех, — показал он на себя. — Чех!.. По-чешски «Ано» — да, да! — дважды повторил он, энергично кивая головой.
— Он чех, — сказала мама.
— Слышу, слышу. — Дед приосанился, потрепал кадета по плечу и повторил — Ано, ано — да, да.
— Да, да, — смеялся кадет, показывая ровные мелкие зубы. — Словани…
— Славяне. Конечно. Уж это да! — кивал дед.
— Да, да! — еще раз, уже серьезно повторил кадет и пустился догонять свою повозку.
Мама сбегала в дом за простыней, расстелила ее и смотрела, как дед бережно кладет на полотно первый мешок, развязывает его, осторожно вытаскивает намокшую буханку, взвешивает ее на ладони, целует и укладывает в кошелку. Мама улыбнулась, и мы благоговейно приступили к священному делу. Со священным трепетом мы вынимали размокшие буханки из мешков и бережно укладывали в корзины и сумки.
— Теперь хлеба у нас будет во сто раз больше, чем у Тасича. — злорадно заметила младшая сестренка, имея в виду скупого солдата-боснийца, который давал маме на сохранение свою пайку хлеба, чтобы товарищи ее не съели.