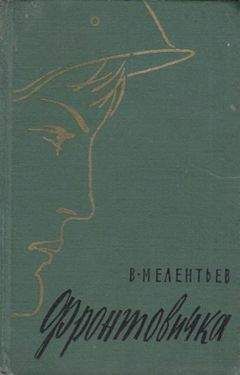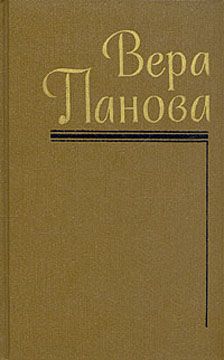После того что пришлось пережить, этот одиночный разрыв был не страшен Вале. Он только насторожил и подстегнул ее. Она повернула Ларису и потащила в сторону от главной дороги, на пешеходную тропку, над которой лишь иногда, по случайности, рвались неизвестно откуда взявшиеся мины.
Когда они выбрались на безопасный участок, сзади, совсем близко от дороги, рванул еще один снаряд, а потом еще два — немцы разнообразили приемы беспокоящего огня. Лариса дернулась и, смешно втянув голову в плечи, трусцой засеменила в кусты. И тут только Валя заметила, что в руках у нее чистенький, белый узелочек, с которыми простые русские женщины ходят на свидания с близкими. Тот самый подчеркнуто белый, слегка накрахмаленный, бережно, на отшибе от тела придерживаемый узелок, который, как песня без слов, расскажет близкому о том, что о нем думают, любят и ценят. Коренная москвичка, Валя видела такие узелки не только в дальних переулках, но и на главных улицах, и хотя тогда они казались ей смешными и ненужными, сейчас обострившимся чутьем она поняла, что стояло за этим узелком, поняла, чего стоило трусливой Ларисе перебороть себя и одной отправиться в страшную для нее дорогу, чтобы не словами, даже не взглядами, а вот этим белым, чистеньким узелком засвидетельствовать Вале свое истинное отношение.
Уже зная, что большинство людей с трудом подбирают слова, чтобы выразить свои мысли и чувства, и потому не говорят ничего лишнего, Валя не стала ждать Ларисиных рассказов. Она чувствовала себя как бы ответственной за нее, старше и опытней своей подруги-недруга. Валя догнала Ларису, крепко схватила за руку и ласково, будто маленькой, сказала:
— Ты здесь не бойся. Сюда они не стреляют.
Лариса, не разгибаясь, посмотрела на Валю снизу, и в ее светлых, совсем бесцветных от страха глазах Валя увидела нечто такое, что сразу заставило ее нахмуриться и с откровенным превосходством, покровительственно сказать:
— Ну, хватит, хватит, чудачка. Тут нет ничего страшного.
И странно, как раз это превосходство, хмурость, эта граничащая с презрением покровительственность подействовали на Ларису сильнее всего. Она выпрямилась, отерла пот, пригладила волосы и почти спокойно, так, что Вале на мгновение показалось, что раньше Лариса притворялась, сказала:
— Вот страхотища-то, го-осподи! В селе оно не так гремит, а здесь эхом отдает, что ли… Даже в ногах дрожь, и силы отнялись. — И предложила: — Посидим, что ли.
Они сели на траву под орешником, и Лариса, отворачиваясь, протянула узелок. Валя понимала, что она не имеет права не брать этот гостинец, и, невольно подражая Осадчему, степенно положила его перед собой на траву, пошире расставила ноги, благо она была все еще в маскировочном костюме, и развязала белоснежный узелок. В нем было печенье, которое выдавалось офицерам в дополнительном пайке, банка рыбных консервов, немного сливочного масла и сморщенное, но все-таки свежее яблоко. Были и сухари, поджаристые, без изломов: Лариса полностью использовала свое служебное положение.
— Спасибо, — срываясь с невольно взятого тона и краснея от удовольствия, сказала Валя, и Лариса, как и следовало ожидать, плавно махнула рукой: «Пустое» — и сейчас же обеими руками поправила волосы. Если бы на ней был платок, она, конечно, завязала бы его потуже. Но на ней была пилотка, и она поправила пилотку.
От этого обряда, как раз такого, каким он должен был быть в этом положении, Вале стало как-то очень просто и тепло. Она вынула из ножен финский нож, разрезала яблоко и протянула половинку Ларисе. Та степенно взяла половинку и покосилась на Валю. Перехватив взгляд, Валя сразу поняла, что́ ее смущало последние несколько минут, — оружие. Автомат, сумка с запасным диском и гранаты на поясе. За всю ночь, за все это утро Валя ни разу не вспомнила о них. Они как бы срослись с ней, стали ее частью. Она даже не могла вспомнить, снимала ли она оружие в Дусиной землянке или нет. Усмехаясь этому новому открытию, Валя сняла автомат, отпустила ремень и сразу почувствовала необыкновенную, слегка ленивую легкость. Она прилегла, опираясь на локоть, и вытянула ноги. Лариса с опаской погладила автомат, толстым ногтем поковыряла свежую осколочную выбоину на прикладе и спросила:
— Страшно было?
— Страшно, — спокойно, не задумываясь, ответила Валя.
— Очень?
— Очень!
— И не сбежала?
— Дело. От него не убежишь.
Лариса пожала мощными плечами и привычным, ворчливым тоном сказала:
— Все ж таки странная ты очень. Женского в тебе мало. И за каким, спрашивается, чертом нужно лезть во всю эту страхотищу? Мужики ведь не все перевелись. А тебе другим делом заняться нужно, которое им несподручно. Смотришь, мужа бы нашла, домком бы зажила.
Валя вспомнила Дусю и военный уют ее «домка», вспомнила многочисленных ухажеров и довольно потянулась:
— Не для меня это, Лара. У меня — свое.
— Вот то-то и оно, что свое. Помяни мое слово — останешься в вековухах. — Лариса сложила руки под мощной грудью и неожиданно добавила: — Как и я, наверно.
Валя рассмеялась.
— А ты не смейся. Ты мои слова попомни.
Они помолчали. Лариса вытерла указательным и большим пальцами уголки рта и довольным грудным голосом стала рассказывать:
— К утру телефонистка наша прибежала и говорит, что Вальку не то немцы в плен взяли, не то просто убили. Девчонки повскакали как есть, в рубашках, на печь, сбились и не то плачут, не то просто так скулят. Я уж и ругаться начала, а потом и самой страшновато стало…
Она деликатно замолкла, давая Вале возможность оценить поведение девчонок. И Валя оценила его. Но беда была в том, что утреннее солнце начинало уже припекать и ей все больше хотелось спать. Поэтому она только благодарно улыбнулась, но ничего не ответила. Ларисе это не понравилось. Как всякий выспавшийся человек, она не могла понять засыпающего и нахмурилась, потом вздохнула и, обрывая горстью молодую траву возле себя, равнодушно заключила:
— Тут в аккурат письмо тебе пришло, ну я и решила: дай, думаю, отнесу.
Дремота пропала, и Валя встрепенулась. Лариса вынула из нагрудного кармана письмо в хорошем довоенном конверте с глянцем, и Валя сразу поняла, что пишет мать. Она не могла писать в треугольничках. По ее мнению, они были признаком дурного тона.
Валя взяла это письмо и, чувствуя, как щеки заливает румянец, смущенно отвернулась. Она не предполагала, что даже мысль о матери может вызвать в ней такое светлое и слегка стыдливое ощущение радости и нежности.
Мать сообщала, что Наташка совсем отбилась от рук, учиться после седьмого класса не хочет и собирается идти работать; что в Москве стало лучше с продуктами и теперь почти никто не ездит мешочничать; что она сама теперь стала надомницей — шьет какие-то мешочки и получает карточку на четыреста граммов хлеба и даже на другие продукты. И уже в самом конце письма сквозь тщательно скрываемую тревогу и надежду сообщалось, что с месяц назад к ним заходил какой-то пожилой военный и искал Валю. Однако дома никого не было, кроме соседки, а та, хоть и предложила военному подождать и попить чайку, не сумела его задержать. Военный ушел, обещая зайти еще раз. Он был очень удивлен, обрадован и в то же время обеспокоен, когда узнал, что Валя на фронте, и сказал, что постарается отыскать ее. Но соседка, как теперь выяснилось, дала ему неправильный адрес: перепутала в номере полевой почты две последние цифры. Мать осторожно спрашивала, не появлялся ли этот загадочный военный в Валиной части.
Ничто не говорило о том, что к ним заходил отец, но Валя сразу же решила, что это был он, и только он. Потому что не было на свете ни одного пожилого военного, который мог бы и радоваться и беспокоиться одновременно. Это умел делать только отец.
Она долго сидела с просветленным, задумчивым лицом, не зная, радоваться ли известию или подождать, чтобы не обмануться: из тех мест, куда попал ее отец, возвратиться так скоро было нелегко. Но ей хотелось верить…
— Что ты присмирела? От милого получила, что ли? — с плохо скрываемой ревнивой подозрительностью спросила Лариса, и Валя все так же задумчиво, теперь еще и печально покачала головой.
— Нет. Из дому.
— Ну, что ж?
— Да вот… Мать вспомнила, — соврала Валя, и Лариса успокоилась: о матерях всегда вспоминают вот так — просветленно и задумчиво.
Они посидели под орешником еще с полчаса и двинулись в обратный путь.
Весна притомилась и успокоилась. Зелень на деревьях и в лугах казалась мясистой, сытой. Зори лишились тонких, трепетных цветов, стали густыми, буйными и, пожалуй, грубоватыми. И даже небо уже не казалось днем голубым, а ночью черным. К полудню оно словно выцветало от яркого солнца, а к полуночи так и не успевало набирать хорошей мечтательной черноты, оставаясь зеленовато-белесым. Звездам на таком небе было неуютно, и они светили вполсилы.