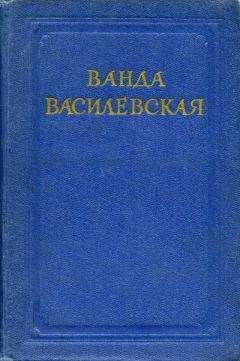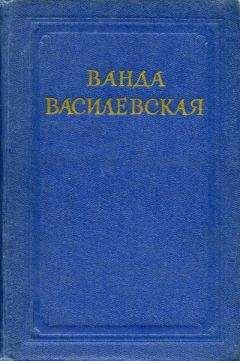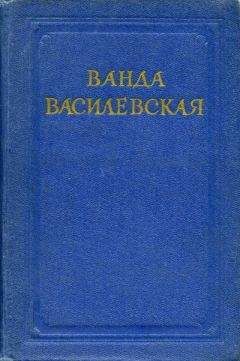Пуся оглянулась на дом, где жила сестра, сердце ее неприятие вздрогнуло, — из дверей кто-то вышел. Она затопталась на снегу, словно пойманная на месте преступления, и искоса она пригляделась к вышедшей женщине. Нет, это была не Ольга, а ее квартирохозяйка. Женщина стояла у дверей и, заслонив глаза от солнца, пристально всматривалась в даль. Потом она приоткрыла дверь в избу и что-то крикнула. Тотчас вокруг нее образовалась группка людей, все они заслоняли глаза от ослепительного блеска снега и солнца и смотрели в одном направлении.
Федосия Кравчук тоже вышла, заметив движение на улице. Она взглянула туда, куда глядели все. Сердце у нее на минуту остановилось и вдруг заколотилось бешено, стремительно, как язык набатного колокола. По дороге, медленно приближаясь к деревне, шла группа людей. Они шли сомкнутыми рядами, на солнце поблескивали штыки.
— Немцы идут? — заговорили перед избами.
— Мало их тут было, новых нам надо…
— Что они думают, что найдут еще у нас жратву?
— Это не немцы, — натянутым, как струна, срывающимся голосом сказала вдруг Банючиха. — Родные вы мои, да посмотрите же, это не немцы!
— С ума ты сошла, что ли, кто же еще может быть?
— Наши, боже милостивый, — наши идут…
— Смотрите хорошенько, бабы, как же наши могут так итти? Среди бела дня прямо по дороге?
— Мама, да ведь звезды на шапках, звезды! — пискливо крикнул Гриша Банюк.
— Что ты говоришь? Ты видишь, хорошо видишь?
Яркий блеск слепил глаза и мешал смотреть. Они отчаянно напрягали зрение, пытаясь разглядеть подходивших.
— Наши? Немцы?
— Какое там наши, — почудилось Гришутке… Смотрите, немцы спокойно стоят на постах и не думают стрелять…
— А Гриша прав, — объявил вдруг Александр, — шапки наши…
— Наши?
— Только радоваться-то нечему, приглядитесь-ка, теперь видно.
Они умолкли. Да, теперь действительно было видно. По дороге шел отряд красноармейцев. Собственно не шел, а тащился по снегу, а рядом двигались вооруженные немецкие конвоиры.
— Наших пленных ведут, — пронесся отчаянный шепот.
— Наших ведут…
На улице собиралось все больше народу. Толпа широко раскрытыми, полными ужаса глазами смотрела на приближающуюся группу. Было видно, что они идут с трудом, с мучительными усилиями. Солдаты грубо покрикивали на них.
— Боже милостивый, и раненых ведут…
— Валенки у них забрали, босиком идут…
— Весь в крови, смотри, Саня…
Проходящий мимо немец свирепо заорал, но они не обратили на него внимания и продолжали сосредоточенно и молча глядеть на приближающееся шествие.
— Боже милостивый…
Те уже вошли в деревню. Теперь можно было вблизи рассмотреть измученные, смертельно бледные, посиневшие лица пленных. Красноармеец во втором ряду едва тащился, шатаясь, как пьяный.
— Эй, ты! — кричал на него конвоир, и раненый выпрямлялся, пытаясь итти, как другие. Кто-то из его товарищей осторожно поддержал его, когда он сильнее покачнулся. Но тотчас же на поддерживающую руку обрушился внезапный и быстрый удар приклада. Рука безжизненно повисла вдоль туловища, как сломанная ветка.
— Боже милостивый…
Они с трудом волочили израненные босые ноги, оставляя на снегу кровавые следы. Они падали и тяжело поднимались, опираясь на руки. На них сыпались удары прикладами.
Пуся стояла между другими в толпе и тоже смотрела. Она увидела бледные, страшные лица с лихорадочно горящими глазами. Застывшую рыжую кровь на перевязках, сделанных из первых попавшихся тряпок. Почерневшие обмороженные ноги. Обычная бессмысленная улыбочка застыла на ее губах.
— Не смейся! — услышала она над самым ухом и в испуге отскочила. Это была Ольга. Со стиснутыми губами, с руками, сжатыми в кулаки, с сошедшимися на переносице бровями смотрела она на проходивших пленных. И вдруг сквозь красный туман, застилавший ее глаза, она разглядела узенькое, бледное лицо сестры, блеск сережки над меховым воротником и улыбочку, приклеившуюся к накрашенным губам.
— Не смейся!
Пуся отступила. Перед самыми глазами она видела большие, расширенные от гнева глаза Ольги и ее дышащие гневом губы.
— Я не смеюсь, — ответила она машинально.
— Смеешься, — сказала Ольга и изо всех сил ударила по бледному лицу офицерской любовницы. Пуся взвизгнула, как щенок, съежилась и вдруг, разразившись слезами, пустилась бегом домой, спотыкаясь, путаясь в полах длинной шубы, хватаясь руками за голову.
А те все шли. Вот они поравнялись с толпой. Лихорадочные, горящие глаза устремились на стоящих перед избами женщин.
— Хлеба, — сказал один из них. Удар приклада обрушился на его голову. Но тотчас отозвался другой.
— Хлеба… Мы неделю не ели…
— Господи, господи милостивый, — простонала Банючиха. И все лихорадочно бросились по избам, кинулись в чуланы, дрожащими руками доставали из узелков, из горшочков, из тайников за образами все, что у них еще осталось.
— Давай, давай, о боже милостивый, скорей, скорей же!..
Первая выскочила Банючиха. Не обращая внимания на конвой, она бросилась к рядам. В руках у нее была темная краюха хлеба, последняя горбушка, которую она прятала для детей.
— Прочь! — заорал немец, но она ничего не слышала и не видела. Она оттолкнула солдата и хотела сунуть хлеб раненому красноармейцу.
— Прочь! — еще раз крикнул солдат и с размаха ударил ее в грудь. Банючиха без стона опустилась на снег. Немец ногой оттолкнул в сторону упавший хлеб. Горбушка отлетела далеко в ров. Один из исхудалых призраков рванулся за ней. Щелкнул выстрел. Пленный свалился на краю дороги.
Женщины даже не взглянули на потерявшую сознание Банючиху. Они бежали за пленными, стараясь бросить им, сунуть в руку ломоть хлеба, испеченную в золе лепешку. Из комендатуры высыпали солдаты.
— Прочь! — бешеным голосом орал фельдфебель. Они бросились на женщин, молотя наугад прикладами. Бабы, заслоняя руками головы, падали на колени, пытаясь подбросить хлеб под ноги идущих. Один из пленных наклонился за ним. Снова загремел выстрел, и убитый свалился к ногам товарищей.
— Не нужно, граждане, не рискуйте собой понапрасну, не надо! — высоким, срывающимся голосом, громко, на всю улицу, сказал молоденький раненый, который с трудом ковылял в рядах. — Отойдите, женщины, отойдите, матери наши. Все равно они не дадут нам взять ни кусочка, зачем зря людям гибнуть?
Они и без него видели, что тут не поможешь. Двое убитых лежали на дороге. Банючиха с трудом поднималась с земли. А они стояли с хлебом в руках и горестно глядели на красноармейцев, лихорадочными безнадежными глазами смотревших на хлеб.
— Саша! — окликнула Малючиха сына, — тут ничего не сделаешь! Собери-ка ребят, надо наперерез бежать за поворот, бросить там на дороге, — и ходу! Немчура не заметит, а наши, может, хоть кусок какой подберут.
Детей, словно ветром, сдуло с улицы. Женщины отошли к дверям своих изб. Они плакали, кусая концы головных платков, качали головами в безмолвном горе.
— Ну, как ты? — заботливо спрашивала Фрося Грохач, подавая воду Банючихе и растирая ей снегом виски.
Та присела и, закрыв глаза руками, разразилась коротким, мучительным рыданием.
— Что, очень больно?
— Нет, нет… Что ты, Фрося…
— Не плачь, ничего, полежишь, — пройдет.
— Да что ты, дурочка, разве я о том, потошнило немного, пройдет, ничего не будет… Слушай, Фрося, я вот думаю, если мой Петро так… Слышишь, лучше пусть бы в первом бою погиб, пусть бы его бомба разорвала, пусть бы его танк задавил, слышишь?
Страстным, сдавленным голосом она шептала прямо в лицо девушки. Фрося сжала ее руку.
— Успокойся, успокойся…
— Слышишь? Если уж иначе нельзя, пускай лучше пулю в лоб себе пустит, гранатой себя взорвет, только бы не так, не так, не так!
— Ну, ясно… А ты встань-ка, я тебе помогу, а то замерзнешь тут…
Банючиха тяжело поднялась, опираясь на плечо девушки, и с трудом перешла в избу.
Гриша большими испуганными глазами смотрел на мать. Она со стоном повалилась на кровать. У нее все болело, к горлу подступала тошнота. Но она не думала об атом.
— Гриша, иди сюда!
Мальчик подошел к кровати.
— Гриша, слышишь, что я тебе скажу?
— Слышу, да ведь вы еще ничего не говорите…
— Слушай, Гриша, если тебе когда-нибудь, не дай бог, случится, что придется выбирать — или смерть, или немецкий плен, — выбирай смерть!
— Да что ты, спятила, — возмутилась Фрося. — Мальчику пять лет…
Перепуганный мальчик плакал.
— Что ты пугаешь ребенка? Ничего этого он еще не понимает, а пока он подрастет, и немцев не будет… — Банючиха задумалась.
— А может, и правда? Какая же справедливость была бы на свете, если бы за эту войну все собачье семя до последнего не вырезали…
Она застонала, хватаясь за живот.