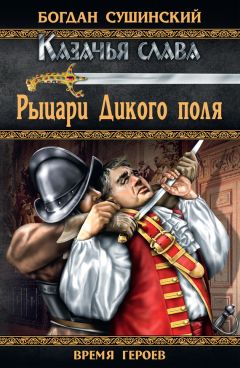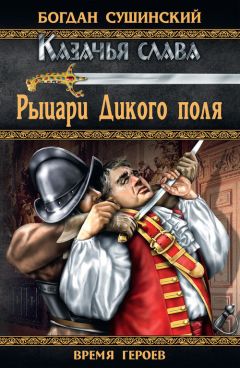– Хотел бы я услышать название армии, в которой это принято, – недовольно проворчал дон Морано. – Кроме французской, разумеется. Эти лягушатники, тьфу! – он брезгливо сплюнул. Огромной, усыпанной язвами лапищей отер бороду и, отодвинув кубок, приложился к горлышку бутылки. – Не принято, но выдают же.
– …А еще я подумал, – вновь наполнил свой кубок отец Григорий, – что я ведь не в Украине. Кто я здесь такой? Наемник. И какое мне, в сущности, дело: будет этот чертов форт Сен-Бернардин, или как его там, взят испанцами или же останется у французов? Стоит ли из-за этого терпеть муки?
– Это-то меня и удивляло. Какого черта упорствовать, рваный ты башмак повешенного на рее? Только давай поближе к делу, приятель, а то терпение у меня иссякло. А костер развести недолго.
– Сказал уже, что утаивать мне нечего, – пожал плечами Родан. – Известно же мне вот что…
Именно потому, что Родан выдавал секреты не под пытками, а с кубком вина в руке, дон Морано верил ему. Человек терпел, сколько мог, перенес столько пыток и наконец заговорил. Не потому, что сломался в руках палачей, а потому, что понял: нет смысла терпеть все это дальше.
– Ты все сказал? – сиплым голосом хронически простуженного спросил дон Морано, когда Родан закончил свой рассказ.
– Было бы что, я бы добавил. Сидеть за столом, глядя на бутылки с вином, куда приятнее, чем висеть на дыбе.
– Можешь считать, что это – единственное, чему я искренне поверил, – расхохотался дон Морано.
– Зря, командор. Все, что я только что сказал, правда. Независимо от того, верите ли вы мне или нет.
– Тогда скажи мне правду и об этом французе, который сначала предал и продал тебя, а потом вдруг сам загорелся желанием побывать в плену.
Родан налил в кубок вина, а тем, что осталось в бутылке, полил себе рану на предплечье, чтобы она не так жгла.
– А что вас удивляет, дон Морано? Несчастный, обреченный человек, на которого все лекари в той округе, где он живет, давно махнули рукой. Он хотел заработать ровно столько, чтобы не умирать нищим. Только вряд ли он знает хотя бы половину того, что сказал я.
– Уже торгуешься? – наклонился к нему командор. – Не торопись, рваный башмак повешенного на рее, не торопись. Если ты сказал правду, мы воспользуемся хитростью французов, чтобы оставить их в дураках. Раз вместо настоящих орудий они выставили муляжи, пусть и стреляют ими по моим кораблям и десанту. Мне твоя смерть не нужна. Так что, если завтра под вечер меня ждет победа под Сен-Бернардином, – ты свободен. Можешь убираться в свои дикие степи. Но если… Даже мои парни-палачи будут рыдать, глядя на твои муки.
– Наконец-то и я услышал от вас то, в чем совершенно невозможно усомниться, дон Морано.
Во время первого своего штурма повстанцы явно не рассчитали соотношение сил. Они ринулись на приступ с таким упорством, словно их было впятеро больше, чем солдат полковника Голембского, или же просто не в состоянии были обойти усадьбу Зульского и вынуждены взять ее во что бы то ни стало.
Однако поляки тоже понимали, что отступать им некуда и что пощады ждать не приходится. Они рассеивали повстанцев орудийным и ружейным огнем, потом разили предусмотрительно припасенными луками и копьями, и наконец, уже на повозках, сходились врукопашную. Но и здесь поляки оказывались в более выгодной позиции. Стоя на повозках, они истребляли гайдуков из пистолетов, сбивали с седел оглоблями и косами, которыми вооружили их слуги Зульского. Да и вся челядь подстаросты тоже была брошена к возам и сражалась не хуже солдат.
«Дело тут не в том, что повстанцы вынуждены штурмовать этот лагерь, – подумал в разгар второй атаки Шевалье. – Повстанцев гонит на приступ их ненависть. Так сражаться могут только люди, которые не просто сошлись на поле боя, как противники, а которые ненавидят и боятся друг друга хуже смерти. Такое не может продолжаться вечно. Эти две силы обязательно должны сойтись в большой войне. И одна из них будет окончательно сломлена. На одной и той же земле не могут сосуществовать две ненависти, две ненавидящие друг друга нации – польская и украинская, вот о чем предстоит писать, если ты действительно тщишься стать историографом казачества».
В третью атаку повстанцы идти уже не решились. Поняв, что штурмом взять лагерь не удастся, они начали возводить у ближайших крестьянских усадеб и на опушке леса свои собственные укрепления – в одном месте стаскивали повозки, в другом валили деревья или насыпали валы, которые укрывали бы их от пуль и сдерживали конницу поляков. При этом гайдуки почти непрерывно гарцевали у передней линии, оскорбляя драгунов и пытаясь всячески выманить их за пределы лагеря. Однако полковник расчетливо берег силы, понимая, что, возможно, придется выдержать длительную осаду.
Наверное, так оно и было бы, если бы двое гонцов, посланных им еще ночью в соседний городок, не привели с собой отряд польских пехотинцев, к которому присоединилось около сотни конных шляхтичей-ополченцев. Всего этот отряд составлял не более двухсот человек, но его внезапное появление в самом центре села заставило гайдуков содрогнуться и оттянуть часть сил. И вот тут Голембский не упустил свой шанс. Бросив на соединение с отрядом подкрепления большую часть полка, он в то же время открыл яростный орудийный и ружейный огонь по тем повстанцам, что окапывались со стороны леса.
…После этого боя еще одно восстание казаков и украинских крестьян завершилось тем, чем оно обычно завершалось: почти половина гайдуков полегла на поле брани, часть рассеялась по лесу, окрестным полям и перелескам, а около сорока человек, в основном раненых, да тех, под кем были убиты кони, оказались в плену. Их казнили здесь же, на опушке леса. И тут уж – кому какой выпал жребий: одних садили на колы, которыми служили заостренные оглобли, других четвертовали, третьих вешали, а кому уж очень повезло, тех без всяких пыток привязали к деревьям и расстреляли из луков…
Шевалье всегда с душевным оцепенением воспринимал любую казнь, пусть даже она происходила на городской площади, и казнили самого отъявленного злодея. Но на сей раз он заставил себя увидеть все это варварство от начала до конца.
– А вот и последний из гайдуков, – указал полковник на приземистого бородача, которого привязали к дереву позже всех, поскольку позже всех выловили где-то на окраине деревни. Раненный в ногу, он пытался незамеченным выйти из села и скрыться в лесу. – Давайте, господин историограф, пустите и свою стрелу в это побоище, а то, как мне сказали, за все время боя вы так ни разу и не взялись ни за лук, ни за саблю.
– Оставляю его вам, полковник, – сухо ответил странствующий летописец. – Но только помните: после каждой такой казни в Украине появляются десятки новых повстанческих отрядов, ибо жестокость порождает жестокость.
– Хотите сказать, что жестокость этих смердов порождает жестокость польских аристократов, совершенно не склонных к подобному варварству? – самодовольно улыбнулся Голембский. – В таком случае, с вами трудно не согласиться. Надеюсь, так и будет написано в вашей будущей книге, которой вскоре станет зачитываться весь просвещенный Париж?
– Там будет написано не так, как вам бы хотелось, а так, как было на самом деле, – отрубил Шевалье и, развернув коня, умчался в деревню.
Еще находясь на колокольне, Шевалье заметил, что несколько деревенских построек загорелось. И ему даже показалось, что огнем была объята изба Христины. Правда, тогда он не был уверен, что пылающая усадьба действительно принадлежала Христине, но все равно душа его должна была бы тайно возрадоваться: Подольскую Фурию, как он называл теперь эту женщину, наказал сам Господь.
Не важно, от чего загорелся ее дом: то ли от попадания ядра, то ли был подожжен рассвирепевшим гайдуком, которого Христина так и не допустила до двери своего жилья. Мужчина, с таким позором, как он, Пьер Шевалье, бежавший из дома женщины, должен был жаждать отмщения даже в том случае, когда бы его бегству способствовала сама ночная дама сердца. Но ведь она же не способствовала – вот в чем дело!
Немного попетляв по переулкам, странствующий летописец все же отыскал тот тупиковый закоулок, в котором, упираясь в склон крутого холма, находилась усадьба Христины. То, что он увидел здесь, заставило сердце Шевалье дрогнуть: дом и хозяйственные постройки пылали. Прямо посреди двора, на толстой ветке старой груши, обкуривались дымом два висельника, а между ними и пожарищем, на небольшом коврике из присыпанной пеплом травы и почерневших цветов, сидела Подольская Фурия.
В изорванном платье, босая, с растрепанными волосами, она, тем не менее, показалась Шевалье еще прекраснее, чем вчера. Вот только красота ее была какой-то неестественно-встревоженной и неземной, а во взгляде печальных глаз появилось что-то спокойно-демоническое. Ни слез, ни горести – только доверчивая грусть, всепрощающая печаль и снисходительная мольба: «Проходите, идите себе… Это мое горе, а не ваше».