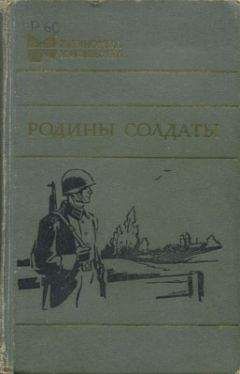— Кое-какие подписи собрать успею. Завтра воскресенье, а в понедельник и без того дел хватит.
«Опять суббота, — подумалось ему. — Мне часто не везло по субботам». Повышение в должности он почему-то не считал удачей и все еще думал о нем так, словно пришло оно к другому. Пожалуй, он даже и не рад был столь крутой перемене в жизни.
В приемной ателье было прохладно и тихо, посетителей — никого. Ермаков опустился в кресло, поджидая, задумался.
— Вы с заказом, товарищ лейтенант, или на примерку? — Знакомый мастер, раздвинув тяжелую портьеру, смотрел на него с вопросительной улыбкой.
— Можно Полину Васильевну? — спросил Ермаков, слегка смутившись.
— Полины Васильевны нет.
— Зайду потом. — Ермаков встал.
— Может, позвать ее заместителя? Заведующая уехала.
— Как уехала?
Мастер недоуменно глянул, объяснил:
— Как все уезжают — в отпуск. И еще к отпуску две недели взяла без содержания. Долго ждать придется… — Он проводил поспешно ушедшего посетителя тем же недоуменным взглядом.
Почту Ермакову присылали на полк, и дежурный по роте вручил ему несколько писем. Среди них одно с незнакомым почерком на конверте без обратного адреса. Уединившись в ротной канцелярии, Ермаков вскрыл его первым. Всего четыре строчки: «Прощай, Тима. Я сама виновата — затянула отношения, хотя с самого начала знала, что у нас ничего не может получиться. Спасибо, что ты был и есть — я ни о чем не жалею. Не ищи меня и не жди…»
Тупо смотрел он в окно, на просторный безлюдный плац, чувствуя болезненную тревогу, а с нею словно бы пустоту вокруг. Уехала Полина… Возможно ли такое? Казалось, она вечно будет где-то рядом, незаметная, любящая…
Любил ли он ее? Разве в том суть, если она заняла, оказывается, немалое место в его жизни, а то, что случилось с ними однажды в сумеречной комнате, разве сотрешь в памяти до конца дней? Он готов был связать свою жизнь с нею навсегда, а вот не захотела… Может быть, Полина знает что-то, чего не дано знать Тимофею Ермакову? Ведь даже теперь он не хочет признаться себе, что окружившая его пустота принесла и облегчение — хорошо, что кончилось именно так. Если он посчитал себя как бы обязанным отвечать на любовь Полины, это, конечно, от нее не укрылось. «Я и гордой бываю, когда надо…» Он не обратил внимания на те ее давние слова, тогда ему было все равно… Или пять лет разницы в возрасте все решили? И ничего уж не скажешь, ни в чем не переубедишь — все решила сама.
Вошел Ордынцев, Ермаков встал, спрятал письмо. Ордынцев глянул пристально, устало опустился на стул:
— Садись, Тимофей Иваныч. Что-то мне лицо твое не нравится, а? — Достал из планшетки и спрятал в стол бумаги, запер на ключ. — Или расставаться с нами грустно? Так знаешь, Тимофей Иваныч, сколько у тебя впереди, таких расставаний?!
Ермаков заговорил неожиданно для себя — оказывается, капитан Ордынцев был единственным человеком, которому он мог рассказать о случившемся, пусть самую суть, не называя имени Полины, — а все-таки мог. Словно душу облегчил.
— Я ведь знаю, о ком речь. — Ордынцев сказал это раздумчиво, поглядывая в окно. — Хорошая женщина… И ты ее не суди, они в этом деле мудрее нас. Поймешь позже и оценишь. Пойдем-ка все же ко мне, пообедаем, поговорим по душам. Никак у нас раньше по душам не выходило, а надо бы много тебе сказать. Пойдем!
…Вечером Игорь Линев вошел в незапертую комнату друга, кое-как растолкал спящего Ермакова, но, услышав сердитую ругань, отступил на цыпочках. «Сдурел парень от счастья», — подумал Игорь, которого неожиданное повышение друга обескуражило и, конечно, задело. Игорю тоже смертельно хотелось спать, но, узнав о близком дне рождения Риты Юргиной, он собрался пойти в кино: возможно, удастся встретиться, получить приглашение. Ермаков пригодился бы как посредник, а в число гостей он все равно не попадет — его ждет дорога. «Отхватил себе роту — чего ему не спать? — подумал с досадой. — Придется обойтись без посредника»…
* * *
Поезд покидал станцию при электрическом свете. Последний раз мелькнули за окном фигуры капитана Ордынцева, прапорщика Зарницына, старшего лейтенанта Линева, идущих к командирскому газику, — там, у оконечности открытого перрона. Ермаков вдохнул глубоко, сколько мог, словно навсегда хотел увезти с собой воздух этого города, такой горький и сладкий. Купейный вагон в составе был один, и тот почти пустой — настала пора, когда отпускники возвращаются, спеша к началу школьных занятий: а кто же ездит отдыхать в городки, затерянные среди полупустыни, где летом царит суховей, зимой — лютые метели?! Ермаков не зажигал света, сидел одиноко в темноте, прислонясь горячим виском к раме окна, смотрел на проплывающие огоньки и вспоминал, вспоминал подробности отшумевшего дня. Долгую беседу с начальником штаба полка и столь же долгое напутствие Юргина, сильное рукопожатие его, пристальный взгляд при последних словах: «Что там за дипломатия у вас с моей Маргаритой Андреевной? Через командира полка передается приглашение новоиспеченному ротному! Я ей, правда, вежливо ответил, что вас иным порядком и в иное место приглашают, но теперь в одном городе будете… Чтоб никаких дипломатических тайн от родителей. Сам приеду — проверю!» И странное чувство, похожее на удовлетворение, от этих шутливо-серьезных слов Юргина, от известия, что Рита будет с ним в одном городе… А потом прощание со взводом, последнее слово перед строем роты, которая стала такой дорогой…
И еще вспоминал Ермаков молоденького лейтенанта, приставшего к нему в общежитии, когда ходил за инструментом, чтобы сокрушить ящик с песком: «Чего с топором шастаешь, словно тать ночной?» Тон лейтенанта выдавал «голенького» новичка, едва сменившего курсантские погоны на лейтенантские. Он так и хочет этим тоном сказать всем равным по званию: вот я прибыл к вам, и весь я тут, свойский парень, и все вы можете быть со мной на короткой ноге, а я душу за вас положу — потому Ермаков извинил лейтенанту бесцеремонность. Узнав о намерении Ермакова, тот изумленно присвистнул: «Тю! Сумасшедший! Да я у тебя эту штуковину под расписку принимаю и всю ответственность беру на себя, а тебе еще и магарыч. И в блиндаж твой немедля вкатываю, пока другие моментом не воспользовались!» Через минуту он приволок чемодан, засунул под кровать. «Пусть теперь попробуют выбить с захваченной позиции! Мне тут, может, до судного дня кантоваться».
Тогда-то Ермаков, поддавшись чувству, вынул из чемодана пластмассовые фигурки танков и расставил на песчаных холмиках. И эти игрушечные танки были свидетелями прощального застолья, где новый их хозяин испуганно уставился на стакан с вином, однако взял его твердой рукой под настороженными взглядами компании и уж понес было к губам. Заметив это, Ордынцев обычным своим тоном сказал: «Выдуешь — в роту мою не попадайся. Шкуру спущу». Лейтенант испуганно отодвинул стакан и после, хотя слова капитана были обращены в шутку, сидел трезвенником. Впрочем, трезвенниками были все — слишком неподходящей для веселья оказалась обстановка.
Игорь Линев молчал весь вечер, лишь под конец обнял Ермакова за плечи, сказал, впадая в неловкую шутливость: «А что у него позади? Отличный взвод и слезы любящих женщин. А что у него впереди? Отличная рота и слезы других, не менее любящих. А куда этот путь приведет его? Поглядим. Шагай, Тимофей, не ленись, не оглядывайся! — и шепотом в самое ухо: — Плохо мне будет без тебя, идол бронетанковый…»
Все — в прошлом. Снова толстым туманным стеклом разделена жизнь Ермакова, и чудятся в этом странном стекле неподвижные лица его бывших солдат, смотрят из дымчатой глубины синие робкие глаза Полины, вызывающе дразнят другие — смелые глаза Риты.
Да, это в прошлом. И всегда будет так — самое дорогое в прошлом? Но зачем тогда жизнь, если каждый шаг дальше, выше приносит утраты и грусть?
«Держись, Десятый! Я иду!»
Разве и такое проходит? Где бы ты ни был, что бы ни делал, вечно будет звучать в тебе этот голос, и ты знаешь: в самый трудный, в самый яростный час плечи друзей тебя не оставят. Ты делил уже с ними радость победы, и одно это окупает все твои утраты. Разве не лучшая доля — уезжать из первого в жизни гарнизона, доказав свое право командовать большим подразделением, если даже личные тылы твои не готовы к лучшим переменам в судьбе? Что же до утрат, обид, разочарований, они не меньше побед нужны командиру, которому учить других и воевать и жить. Без них ты, быть может, доныне остался бы мальчишкой-лейтенантом, а с ними уже теперь другой, потому тебе и больно покидать этот городок и первый свой гарнизон.
Поезд набирал скорость. Грохотал под колесами мост через реку с зеленой водой и синей галькой на берегах. Пролетали мимо фонари на городской окраине, размазываясь желтыми линиями по стеклу. И гудели, качаясь, степные холмы, тусклые и угрюмые под встающей луной. Он внезапно очнулся, оглядел темное купе — такое чувство возникло, будто кто-то уезжал вместе с ним из его первого гарнизона. И вдруг понял: все это время где-то очень близко от круга его раздумий, словно в полутени на краю освещенного пространства, стояла Рита. Стояла и ждала своей минуты, чтобы войти в этот круг и целиком завладеть думами Ермакова. И он на мгновение увидел ее совершенно отчетливо — такой, какая запомнилась ему одним солнечным утром, когда переступила порог его комнаты. С неожиданным волнением подумал, что каникулы ее вот-вот закончатся и тогда они будут в одном городе. Ермаков даже прикрикнул на себя: «Довольно! Мне теперь хватит забот с другой красавицей, и зовут ее не Рита, а Рота», — но уже пришла радость от нового назначения, и он знал, что Рита и Рота — не соперницы, а скорее наоборот. И тогда-то вспомнил, что здесь, при нем, есть еще звенышко, связывающее лейтенанта Ермакова с первым его гарнизоном, — стихи Стрекалина. Он достал мелко исписанные листки из кармана и включил боковой плафон. Стихотворение было длинным, первые строчки он читал почти машинально — и вдруг: