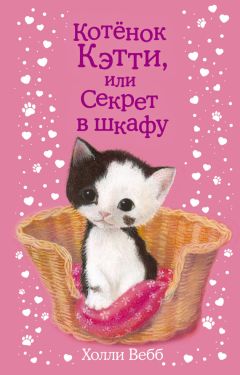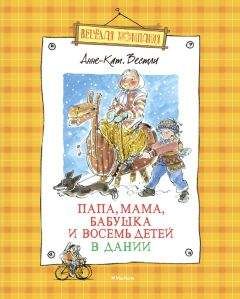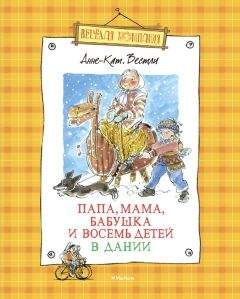всегда умел хорошо бегать, и в дворовой команде Жора был нападающим, тем, кого теперь называют форвард. Вспомнив, как гонял мяч по пустырю у Ильинской церкви, куда ходила его бабушка, Георгий, прижав к груди последнюю бутылку, бросился к танку.
Он петлял, как заяц, на которого с неба пикирует ястреб. Он чувствовал, что смерть была не просто рядом — она была вокруг него, обжигая жаром очередей, к счастью, пока проходящих мимо…
Пока. Он не добежал несколько метров, когда в левой ноге взорвалась боль, а сама нога подломилась, и он, ударившись боком о землю, покатился по траве, думая, впрочем, вовсе не о боли, а о бутылке, прижатой к груди. И когда вражеская машина оказалась рядом он, несмотря на еще усилившуюся боль, изогнувшись, как лук, метнул драгоценную бутылку — и попал.
Последнее, что он увидел прежде, чем потерять сознание, было пламя, выбивающееся из щелей моторного отсека ползучего фашистского гада. А потом тьма, наполненная болью, поглотила его.
* * *
— Люди отвечали огнем на огонь, но их огонь был слабее, чем тот, что был у дракона, и тогда… о, да ты уже заснул, приятель…
Борька поворачивается на бочок, приоткрывает сонные глазки:
— Нет, нет, деда… так что там дальше было? А ты тоже умеешь плеваться огнем?
— Умею, внучок, — улыбается Георгий Петрович. — Раньше умел, теперь-то я старый уже стал…
Врага отбросили от деревни, название которой Георгий так и не узнал. Отбросили ненадолго, ровно настолько, чтобы успеть кое-как похоронить павших в воронке от снаряда, засыпав пахнущим картошкой, кровью и пороховой гарью полесской землей. Его нашли возле сгоревшего фашистского танка — это был танк командира роты, и за тот бой Георгий Петрович потом получит медаль «За отвагу». Медаль дошла до него только в сорок четвертом, когда у него на груди уже был небольшой иконостас…
Киев почти зажали в стальные клещи Гудериан и Клейст; корабли Днепровской флотилии, те, кто прорвался к городу с Пины и Припяти, ушли куда-то на юг. Георгий Петрович приходил в себя ненадолго — два пулевых ранения вызвали у него лихорадку, было даже подозрение на газовую гангрену, и доктор хотел отнять ногу, но обошлось — опухоль спала, гангрена так и не проявила себя. Но в сознание Георгий Петрович пришел уже в эшелоне, эвакуировавшем раненых на восток.
Вчерашняя теплушка с кое-как сколоченными нарами, на которых вповалку лежали живые и умирающие, в сознании и без… все вокруг пропахло кровью, карболкой и еще какой-то гадостью. Поезд медленно шел, часто стоял, пропуская на запад другие эшелоны — с боеприпасами, с подкреплением… иногда на такой вынужденной стоянке санитарки — Маша и Динара, одна с толстой золотой косой, другая с двумя черными как смоль, азиатскими косичками, — выносили из вагона тела умерших.
Эти стоянки стали для их эшелона роковыми. Однажды, придя в себя после очередного приступа лихорадки, Георгий каким-то шестым чувством почувствовал приближение ее, той, которая почему-то остановила свою косу у сожженного села над Припятью. Он закричал, кричал что-то нечленораздельное. Его крик утонул в криках других раненых — не только у него за какой-то месяц появилось это шестое чувство — предчувствие неминуемой беды.
Кое-как вскочив с нар, не обращая внимания на обжигающую боль в ноге и боку (оказывается, его задело дважды, а он и не заметил!), Георгий бросился к выходу, сталкиваясь на ходу с другими ранеными. Он вывалился из вагона, скатился по насыпи и тут же услышал уже знакомый вой — «юнкерсы», проклятые пикирующие «штуки». Тарахтели пулеметы, им отвечали наши зенитные «максимы», а потом все поглотили взрывы. Разверзся ад, все вокруг смешалось — обжигающие волны взрывов, летящие в лицо комья земли, щебень насыпи, какие-то щепки, чья-то окровавленая плоть…
Он видел, как вагон, из которого он успел выпрыгнуть, потонул в пламени взрыва, и через мгновение вынырнул — разломанный, искореженный, горящий… в пламени метались, падали, ползли темные тени — те, кому не так повезло, как ему, кто не успел отойти, отбежать, отползти от вагона. Вскоре горел весь состав; стих бесполезный цокот зенитных «максимов», стих гул отбомбившихся лаптёжников, и лишь крики и стоны раненых доносились то тут, то там.
Георгий встал. Нога болела так, словно ее опустили в кипящее масло. Он зачем-то посмотрел на свои руки — возможно, для того, чтобы убедиться, что они на месте. Руки были в земле вперемешку с кровью, но это была не его кровь…
Этими руками он вместе с парой других раненых выкопал неглубокую могилку, куда положил тело Маши. Ее лицо чудовищно обгорело, одежда превратилась в угли, и лишь прекрасная золотая коса чудом не пострадала…
* * *
— Ну как, заснул наш любитель сказок?
Свет в коридоре погашен, чтобы не разбудить ребенка, а в приоткрытой двери видна голова Васи — внука Георгия Петровича и отца Бориса. Вася — человек серьезный: не так давно закончил университет, но уже работает каким-то начальником на РЖД, часто бывает в командировках в Заполярье. Георгий Петрович удивляется, говорит:
— Там же и дорог-то никаких нет!
— Теперь будут, — отвечает Вася. — Мы строим сейчас Северный широтный ход, ну, как строим — пока только геодезическую съемку проводим. С дядей Андреем виделись в Салехарде — он приезжал туда, будет мост через Лену проектировать.
Такие новости Георгию Петровичу нравятся.
— Спит, — шепотом отвечает Георгий Петрович, убедившись, что Боря действительно заснул и тихо посапывает, чему-то улыбаясь во сне. Хорошо, когда дети во сне улыбаются, а не вздрагивают — наверно, им снятся в это время добрые сны. А значит, они живут в добром, спокойном мире.
В мире, в котором «штуки» не бомбят санитарные поезда, где трое исхудавших, полумёртвых бойцов не хоронят в степи в неглубокой могилке девочку, еще вчера сидевшую за школьной партой. Не опознают ее по чудом не сгоревшей в фугасном пламени косе…
— Я не сплю, — сквозь сон пробормотал Боря. — Рассказывай дальше… про дракона.
— Уморит он тебя, — усмехнулся Вася. — Ты его к своим сказкам приучил, теперь не отвяжешься.
— Сказки — это хорошо, — все так же вполголоса заметил Георгий Петрович. — Вы все на моих сказках выросли, и мне за вас не стыдно.
Он рассеянно погладил Борю по голове и продолжил:
— И тогда дали мальчику чудо-копье. Была в том копье заключена волшебная сила — оно способно было пронзать броню чудовища, поражая того в самое сердце.
И снова он в большой, светлой палате госпиталя в сосновом лесу под Москвой. Здесь так спокойно, что, если бы