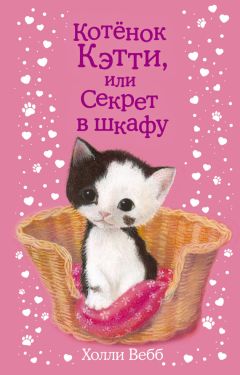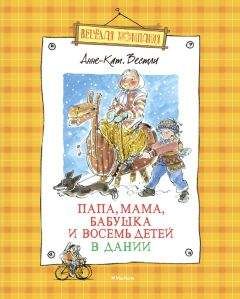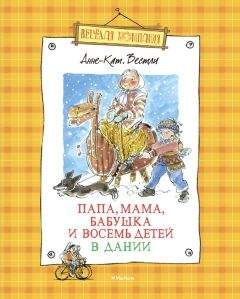Георгия. Он служил в погранвойсках, принял бой в легендарной Брестской крепости в самый день войны. Похоронка оказалась ошибочной — таких ошибок в те дни было много. На Петра мать получила потом еще две похоронки, прежде чем он вернулся домой — раненный при Балатоне, без пальцев на одной руке, но живой, можно сказать, в рубахе родился. Но в те, первые, дни они не знали об этом, они были уверены, что Петр погиб; мать онемела от горя; отец пытался записаться добровольцем — мастер завода «Арсенал», оптик, он куда нужнее был в тылу, да и возраст был уже не тот.
Пытался записаться и Георгий, но ему дали от ворот поворот — мал еще. До призывного возраста Георгию Петровичу оставалось два года. И не было другого выхода, кроме как в бессильной злобе наблюдать в небе фашистских стервятников и слушать вовсе не победные сводки Совинформбюро.
Враг наступал, танки фон Клейста рвались к Киеву. Город наполнялся отступающими частями, которые переформировывались и вновь уходили в бой. Однажды… Георгий Петрович не мог вспомнить, как это было. Многие вещи помнил он до малейших деталей, а эту вот забыл — как отец сказал, что они едут в эвакуацию. И тогда он решился. Написал матери то самое письмо, оставил его на кухонном столике и ушел.
Он боялся. Боялся сказать матери, куда идет. Она его бы точно не пустила. А он — он не смог бы быть достаточно твердым, чтобы настоять на своем. Он знал, как это письмо подействует на мать, особенно сейчас, после потери Петра.
— Понимаешь, Боря, когда дракон нападает, никто не должен оставаться в стороне. Да, страшно выйти на бой с чудовищем столь могучим, что его дыхание сжигает целые города. Страшно — потому, что один ты его победить не в силах и, только собравшись вместе, всем миром, от мала до велика, можно надеяться на победу.
Ушел подальше от родного Подола, туда, где его не знали. Сказал, что бежит с запада, с Волыни (там действительно жила родня его матери), соврал, что ему уже восемнадцать…
Офицер в фуражке с синим околышем, с рукой на перевязи, оторвавшись от бумаг, окинул его недоверчивым взглядом, хмыкнул и сказал:
— Вижу, у тебя крепкая спина. С винтовкой обращаться умеешь?
— Так точно! — гаркнул Георгий (он по фильмам запомнил, как надо отвечать по уставу).
Офицер одобрительно кивнул:
— Тогда записываю тебя рядовым в истребительный батальон…
* * *
Двери в комнату тихонько приоткрылись, луч приглушенного света из коридора прочертил на полу дорожку света, неярко блеснул на стекле серванта в стенке, стоявшей напротив кровати.
— Опять он к вам сбежал, Георгий Петрович! — Это Катенька, жена внука Васи и мама Бори. Голос у нее был взволнованным. — А мы его ищем…
— Тише говори, — приглушенным, как свет в коридоре, голосом сказал Георгий Петрович, — он уже почти заснул. Пусть спит, не будить же его.
— Я не сплю, — сонно, но деловито сказал Боря, — я сказку слушаю! Деда обещал рассказать, как он с драконом воевал.
Катенька замерла в дверях, словно не зная, что делать дальше; затем тряхнула головой (волосы у нее были свиты во множество тоненьких косичек, как у какой-то африканки; странная мода… но ей это шло) и сказала:
— Ну, слушай, что с тобой делать, — и ушла, закрыв за собой двери.
Странно, но порой какая-то маленькая деталь срабатывает, как ключик к потайной дверце, как потерянный кусочек мозаики, превращающий разрозненные воспоминания в единое целое. Косички Катеньки — и толстая, золотая коса медсестрички Маши, которая сопровождала санитарный эшелон, идущий на восток, прочь от уже окруженного врагом Киева.
А до этого был горячий август на линии Киевского укрепленного района — земля, пахнущая молодой картошкой, порохом и кровью, немецкие танки Гудериана, с грохотом надвигавшиеся на окопы с необстрелянными ополченцами, многие из которых вооружены были только бутылками с зажигательной смесью — оружия, боеприпасов не хватало, пушки были вообще наперечет…
— …и тогда мальчик понял — дракон не бессмертен. Каким бы страшным он ни казался, как бы ни плевался смертоносным пламенем, скольких храбрых солдат ни убил бы. Конечно, убить дракона было не просто, а адски сложно — надо было изо дня в день срубать его стальные головы, иногда буквально голыми руками впиваясь в стальную плоть чудовища, бросаясь на его огнедышащие пасти, умирая, чтобы те, кто придут следом, жили — и вновь, и вновь рубили стальную гадину…
Противник рвался к Вышгороду, чтобы охватить Киев с севера, как до того охватил с юга, закрыв в котле под Уманью три дивизии. На его пути, на пути сытых, хорошо экипированных, до зубов вооруженных танкистов Гудериана, стояли такие, как Георгий Петрович, — вчерашние школьники с редкой порослью на щеках, а еще — старики, сгибавшиеся под весом трехлинейки, калеки, прямо из госпиталя рвущиеся на передок, даже женщины. Атака за атакой, проклятый хоровод из артобстрелов, налетов авиации, танковых атак, психических атак с идущими в полный рост под гул походного оркестра солдатами вермахта, знающими, что их не будут косить из пулеметов, потому что пулеметов этих было так мало, что и упоминать не стоит…
У сожженной дотла деревни, рядом с Припятью, он принял свой, как ему казалось, последний бой. Немецкая винтовка маузера, две обоймы по пять патронов, шесть бутылок с зажигательной смесью — так мало, но тогда это казалось целым богатством. Но это только в кино солдат бросает бутылку — и пылает вражеский танк, словно сделан не из брони, а из фанеры. В реальности — поди еще попади в этот танк, когда ты контужен предварительным артобстрелом, оглушен лязгом гусениц и, что греха таить, напуган. Вот прет на тебя бронированное чудовище, грохоча траками, плюясь свинцом из своих пулеметов, — не подстрелит, так раздавит…
А если ты и попал — не факт, что танку это повредит. Лишь при большой удаче огнесмесью можно что-то поджечь внутри танка; чаще всего стальные чудища, пылая, продолжали переть вперед, сминая и давя траками своих обидчиков…
Когда осталась последняя бутылка, когда последний патрон трофейной винтовки заклинило в патроннике, когда справа и слева танки с пародией на кресты на башнях — чернота внутри белых уголков, уже преодолели тонкую линию неглубоких окопов, на него вышел Pz-IV. Этот танк считался тяжелым, командирским. Его отличала короткая, кургузая пушка и антенна на башне. Два его пулемета не молчали, плевались огнем, и Георгий подумал, что вот она — его смерть. Пусть так, но умрет он не один.
Он