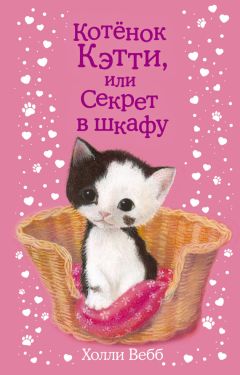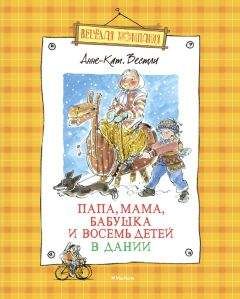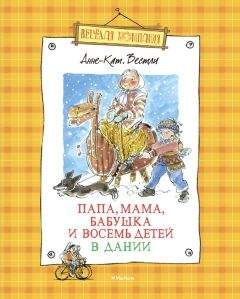Ульянка. — Ну, он меня так назвал, и еще много гадких слов было, «личинка колорада» — самое безобидное. Но я сразу поняла, что он — нацик переодетый, и как побежала.
Они мне стрелять вдогонку начали, одиночными. Я петляю, как заяц; добежала до края посёлка, а там ривчак (ручеёк такой пересыхающий), и под дорогу труба уложена. Я вниз скатилась и в трубу. А там по берегам ривчака тоже всё вербой заросло. Я в трубе сижу тихо-тихо. Они подбежали, что-то гутарили меж собой, а что — я не слышала. Пальнули пару раз в ивняк, да и ушли восвояси.
Я дотемна в трубе просидела, боялась. А бабушка-то как перепугалась! Я как домой пришла, она было меня ругать, потом — я ещё и не говорила ничего, сама как-то поняла. Напоила меня чаем, дала валерьянки. А как я ей всё рассказала, она заплакала — и мне свою историю поведала.
* * *
…Мы идём к бабушке Ули, мимо пруда-«сажалки», берега которой поросли молодым ивняком. Ласково светит весеннее солнышко, поют-чирикают птички, и малиновый звон благовеста говорит, что через неделю светлый праздник Пасхи. В руке у меня — веточка вербы с серебристыми котиками.
Я обязательно вернусь сюда через десять, через двадцать лет. Навещу Ульянку — она думает по окончанию школы поступать в пединститут, чтобы вернуться в деревню учительницей в местную школу, — и обязательно посижу у раненой осколками вербы.
Надеюсь, к тому моменту она уже вырастет снова. Потому что жизнь всегда побеждает смерть.
Часть III. Были и притчи о войне
«Охотники на привале. Наши дни». Морпехи 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтфлота России
— Деда, расскажи сказку.
В доме тихо и темно, но не потому, что он пуст. Этот дом не бывает пустым никогда. У хозяина дома, которому недавно исполнилось девяносто пять, четверо детей, девять внуков и уже четыре правнука. Так уж повелось, что кто-то из них гостит у него и хозяин дома Георгий Петрович никогда не остается один. Эта традиция началась с того дня, как он похоронил свою Вареньку — единственную любовь его долгой жизни, с которой он прожил шесть десятков не самых простых лет. Когда-то Георгий Петрович очень боялся ее потерять — Варя была хрупкой, болезненной; но внутри этой маленькой женщины, издали похожей на ребенка, был какой-то несгибаемый стальной стержень. Это он понял сразу еще тогда, когда она тащила его, здорового парня — косая сажень в плечах, по снежной целине под Сталинградом. Маленькая, хрупкая — а в нем, несмотря на все лишения военной поры, было под центнер — восемьдесят восемь килограмм чистых мышц, чистой ярости и ненависти к врагу.
И дотащила, правда, он этого уже не помнил — отключился из-за потери крови. Другой бы на его месте не выдержал — шесть ранений, пулеметная очередь из немецкого MG, — а он выжил. Другого бы комиссовали — в тылу ведь тоже нужны крепкие руки, — а он добился того, что его вернули в родную дивизию, в родной полк и родной истребительный батальон…
— Ну деда, ну чего ты молчишь…
Он рассеянно ерошит сухой, старческой рукой волосы правнука — такие же пшенично-русые, как были у Вареньки. Никуда она не ушла; она по-прежнему с ним, ее черты проглядывают в чертах его сыновей, дочери, внуков, правнуков…
— Сказку… ну хорошо. Вот только я же тебе, Боря, уже все сказки рассказал, что знал.
— Ну, так придумай новую! — потребовал Борька, Борис Васильевич, младший внук его среднего сына. Вот, говорят, не такая сейчас молодежь… да где же? У Георгия Петровича все его внуки, все правнуки были такими, что не нарадуешься. Может, потому, что он всегда уделял им внимание и детей научил тому же?
— Придумать, говоришь… — А память с годами не гаснет; наоборот — словно какая-то стена становится все тоньше, и через нее начинают сочиться воспоминания так, что порой ты видишь словно наяву, как заходит в комнату другой Борис, молодой лейтенант, навсегда оставшийся под Сандомиром. Снимает пилотку, нервно комкает в руке, потом присаживается рядом — и молчит. С другом ведь можно и помолчать… — Ну, разве что рассказать тебе, как я с драконом воевал?
В темноте глаза Борьки прямо вспыхивают.
— А ты с драконом воевал?
— Вся страна воевала, — улыбается Георгий Петрович, — дракон был уж больно силен. Один бы я не справился, конечно…
* * *
— В одном красивом русском городе жил-был мальчик, совсем простой, такой же, как другие ребята с его двора. Он учился в школе и верил, что завтра будет лучше, чем вчера. Что жизнь с каждым днем будет все лучше, все радостнее. Он верил в это потому, что жил в счастливой, богатой стране, но, как водится, чужие богатства кому-то не давали покоя. И вот однажды, когда его город мирно спал в самом начале лета, прилетел дракон и стал поливать с небес огнем дома со спящими жителями…
…Почему дракон? Может, потому, что воющие «юнкерсы», заходящие в пике над родным Киевом, напоминали этих былинных чудовищ? Это потом Георгий Петрович узнал, что немцы специально ставили на свои самолеты «жужжалки», которые усиливали звук во время атаки, чтобы пугать тех, кого нацисты считали унтерменшами [16]. Но бояться дракона он перестал раньше, намного раньше.
Можно сказать — почти сразу, но это будет неправдой. Первые бомбы, упавшие на мирный город, первые сгоревшие дома, первые погибшие, которых хоронили — он хорошо запомнил такие похороны, красные гробы вряд и пожилого секретаря партячейки, что-то говорившего о гневе, о мести…
Внешне не изменилось ничего — все так же ярко светило июньское солнце на безоблачном небе над Днепром, все так же щебетали птицы, и с реки ветер доносил привычные летние ароматы, но теперь к этому примешивался надрывный лай зениток, гул бомбардировщиков, глухие разрывы бомб, от которых дребезжала посуда в старом серванте…
И обращение Молотова, и тревожные сводки с фронтов, и первые похоронки. И очереди у военкомата.
— Мальчик хоть и был молод, но выглядел старше своих лет; у него уже начинали расти усы, да и вид был бравый, молодецкий — рост под два метра, силушкой Бог не обидел. Однажды он, написав прощальное письмо матери, решил пойти в войско, чтобы дать бой проклятому дракону…
Все было так… но не совсем. Сначала пришла похоронка на Петра — старшего брата