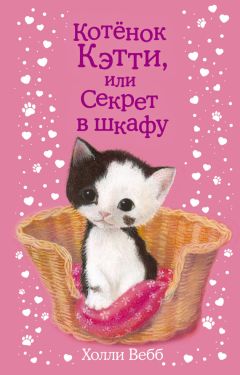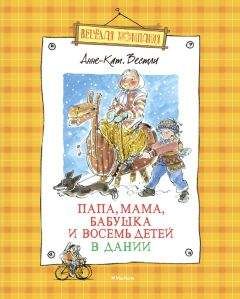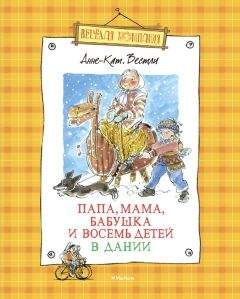и так уже знала. Знала, что их больше нет. Ни Оленьки, ни Вадика, ни мамы. На память о них остались только три мандарина.
В то время Валентина Михайловна играла в Донецком драмтеатре. Роли, конечно, доставались второстепенные, но и актрисой она была еще только молодой, начинающей. Впереди была целая жизнь, она собиралась добиться всего и однажды увидеть собственное имя в центре афиши.
А потом случилась война. Точнее, война в сердцах людей случилась уже давно. И то, что вместо косых взглядов и лозунгов в них полетели снаряды, было страшно, ужасно страшно на самом деле, но… совсем неудивительно.
В тот день Вадик поехал за Олечкой к бабушке, дом которой находился в «серой зоне». Бабушка, мама и дочка должны были уехать в Россию, потому что если с ребенком что-то случится… Нет, Вадик не мог допустить, чтобы его женщины пострадали. Он решил, что должен сначала позаботиться о них, а потом пойти в военкомат.
В тот день Валентина потеряла всех. Мать, мужа и дочь. Только чертовы мандарины остались лежать на асфальте.
Восемь лет прошло. Но у Валентины Михайловны больше никого нет на этом свете. И не будет. Она еще не старая, хоть и совсем седая, но сердце ее навсегда отдано тем, кого у нее отняли люди, которые… Нет, это были совсем не люди. Совсем не люди обстреливали Донбасс и забрасывали его запрещенными во всем мире жестокими кровавыми «лепестками». Совсем не люди цинично заявляли после этого про самообстрелы. Совсем не люди продолжают и продолжают обстреливать города и сёла, где остались одни только старики и дети. Пока ещё живые старики и дети.
У Валентины больше нет семьи, нет дома. Только съемная квартира в Ростове и уголок в комнате сестры-хозяйки в больничном крыле. Там помещаются только стул и старенький трельяж. Сначала Валентина переодевается, потом достаёт свой грим. Последним штрихом будет красный нос на резинке и рыжий кудрявый парик.
Дети в больнице не знают Валентину Михайловну, бывшую актрису, так и не попавшую на афиши, грустную женщину средних лет, живущую в съемной однушке с подобранной на улице дворнягой, похожей на помесь пуделя и медвежонка. Они знают доброго клоуна Бим-Бома. С которым хорошо и весело. Который никогда не плачет.
И клоун Бим-Бом выкатывается из палаты задом, салютует сестричкам, достает из кармана три мандарина и толкает дверь следующей палаты. Здесь лежат дети, которых привезли вчера, и им очень нужен кто-то, кто вновь научит их улыбаться.
У крохотного пруда — «сажалки», как их здесь называют, — стоит большой пень, в половину человеческого роста. От пня вверх тянутся молодые побеги вербы, покрытые пушистыми серебристыми «котиками». Вдали раздаётся колокольный звон — в селе празднуют Вербное воскресенье.
— Раньше в колокола не звонили, — говорит Улянка, моя маленькая провожатая. — Нацисты сразу стрелять начинали, будто у них от этого звона корчи начинались. По нам тяжёлым редко палили, но из миномётов били, и танки с БМП иногда подъезжали пострелять. Крайние хаты все разрушенные стоят, и ферма, и МТС старая.
Она останавливается у вербы и отламывает несколько веточек с котиками.
— Старую вербу еще в шестнадцатом срубило, — говорит она. — Осколок от мины, сто двадцать миллиметров. — Она улыбается. — Бабушка Уля говорит, что эта верба после войны выросла на месте пенька от другой, которую в войну точно так же осколком срубило. И видите — уже новые побеги пошли. Лет через десять опять будет здесь ивушка. Ничего у них не получится.
Уля ведёт меня в дом к своей бабушке, которую тоже зовут Ульяна. Папа Ульяны-младшей, сын её бабушки, воюет в ополчении. Мама — старший санитар госпиталя.
— Мы с бабушкой вообще очень похожи, — сообщает Ульяна и снова улыбается. — Просто невероятно. И судьба у нас похожая. В сорок первом — сорок втором в деревне немцы стояли. Тогда бабушке пять лет только было, так она чуть не погибла. Какой-то оккупант залез к ним в погреб, нашёл банку с вареньем и давай наворачивать, запивая каким-то пойлом, шнапсом, наверно. А бабушка как раз увидела это, зашла в «шию» — это такой тамбур перед погребом — и говорит:
— Дядя, а что это вы наше варенье едите?
А немец, видать, по-русски чуть понимал. Говорит:
— Тепр-рь это еда для зольдат ауф вермахт! А где твой папа, киндер?
А бабушка же маленькая была, не понимала, кто это, — дядька и дядька. Откуда ей знать было, что он фашист? Она возьми и скажи:
— А папка бьёт фашистов!
Немца скривило, как чёрта от святой воды. Он банку отставил, шарит по поясу, где у него кобура:
— Ферфлюхтен кляйне хунд! Уб-ью, русишь швайне!
Бабушка почуяла неладное и рванула во двор, к калитке. Немец за ней; достал пистолет и пальнул, не целясь, да сам споткнулся и упал. Бабушка со страху в обморок упала, лежит, как мёртвая. Немец то ли успел уже глаза залить, то ли просто ему всё равно было. Поднялся, грязь с куриным помётом с рукава отряхнул, подошёл к бабушке, ногой пнул, да и ушёл прочь. Прабабушка это в окно видела. Чуть немец за порог, она во двор к дочке, а бабушка уж и сама в себя пришла, поднимается на ноги. Прабабушка её в охапку и в дом. Дней десять на улицу не выпускала! Они с прапрадедушкой целый спектакль разыграли, гробик сколотили, на кладбище отвезли, схоронили, соседям всем сказали, что «Улюшку нашу немец убил».
* * *
Я стою, слушаю, опираясь на пень от вербы, уже два раза пострадавшей от обстрела, а Уля продолжает:
— А когда наше село в «серой зоне» оказалось, послала меня как-то бабушка в соседнее село, к тёте Вале. Она ездила в Горловку, передачи оттуда возила, ей полсела заказывало — лекарства в основном, много-то не привезёшь. А накануне нацики в «серую зону» вошли, как раз в то село, где тётя Валя жила. Я уж домой возвращалась, вижу, идут двое. Подумала, может, наши — на них никаких знаков не было, обычно нацисты себя всякой пакостью украшают, свастиками там, черепами — эти нет. И один говорит мне, на русском… они все ж на русском меж собой, кроме галицаев, ну и наёмников:
— Девочка, ты местная?
— Не, — отвечаю, — я из соседнего села, у бабушки живу.
— А родители твои где? — спрашивает.
— Мама в больнице работает, — отвечаю, — а папа фашистов бьёт.
Его аж перекосило! Глаза прям на лоб повылазили:
— Ах ты, сучка сепарская… ой, простите, — краснеет