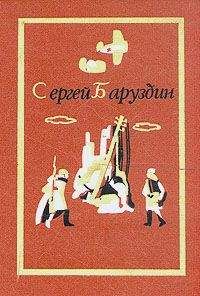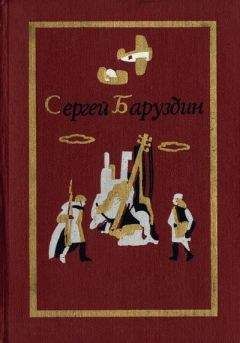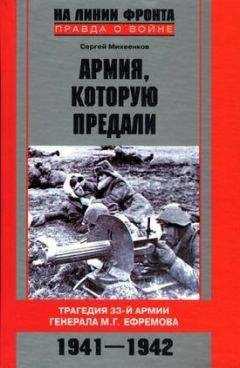После концерта они пришли на сцену, и их долго вместе фотографировали. Снимки были напечатаны в большой газете «За индустриализацию» и в маленькой — наркоматовской — «Штаб индустрии». Она сидела рядом с Орджоникидзе и почти рядом с Калининым, и Орджоникидзе спросил ее:
— Отец твой в Наркомтяже работает? Как зовут-то тебя?
Она назвала фамилию.
— Ну, Савелия Викторовича знаю! Еще по тракторному в Сталинграде, а сейчас мы — сослуживцы. Увижу завтра, передам, что дочь у него молодцом! Лихо плясала! Правда, Михаил Иваныч?
И ей было совсем не страшно тогда, а, наоборот, как-то очень легко. И когда отец на следующий день, а вернее, почти в ночь, когда она уже спала, вернулся с работы и разбудил ее, все было естественно и просто:
— Слушай, а тебя сегодня мне сам Серго хвалил! Понимаешь? И газеты напечатали!
Она выхватила у отца газеты и обрадовалась: они оба тоже на снимках! Оба — это Вова Соловьев и Женя Спирин. Вместе с ней, и с другими ребятами и девочками, и с Орджоникидзе и Калининым.
Ей нравились Вова и Женя. И хотя с Женей она даже как-то целовалась в подъезде в Кривоколенном переулке, как раз напротив дома, в котором Пушкин когда-то читал Веневитинову «Бориса Годунова», она не знала, кто ей нравился больше — Женя или Вова. Просто Женя был смелее. И ей всегда было трудно: если ее провожал Вова, как быть с Женей? И как быть с Вовой, когда Женя звал ее по выходным дням в планетарий? Она ходила с Женей в планетарий, наверно, сто раз и страшно скучала там. А Женя был увлечен звездами и разными планетами, занимался в астрономическом кружке при планетарии, и ей не хотелось его обижать: он ей нравился. А с Вовой она просто отдыхала, хотя тот больше молчал. Он ничего не говорил ни про звезды, ни про планеты, а водил ее в зоопарк, и в уголок Дурова, и в цирк, и еще в звериную поликлинику где-то у Трубной площади и молчал, и она знала, что он любит зверей и что она ему нравится. И он ей нравился. Очень! Может быть, больше, чем Женя. А может быть, и нет — так же.
Все это было давно, очень давно. До войны. В тридцать девятом она пошла работать, и уже не бывала в клубе Наркомтяжпрома, и редко кого видела из старых знакомых. Ей тогда как раз исполнилось семнадцать, она пошла работать и бросила школу. Вова потерялся совсем. Говорили, что он уехал куда-то с родителями — кажется, на Камчатку или Чукотку. Раньше они виделись часто и потому не научились переписываться, и теперь она не ждала от него никаких писем. А потеряв след Вовы, она и о Жене почему-то перестала думать. Оба вместе они были нужны ей, а отдельно…
Нет, это совсем не то, что сейчас. И хотя Слава чем-то похож на Вову, а может, и на Женю, все равно не то…
Женя нашел ее в прошлом году, в райисполкоме. Стоял ноябрь, самое тяжелое время, — райисполком гудел, и все были задерганы, взвинчены, и тут появился он:
— Вот пришел, попрощаться пришел… Совсем забыла ты меня? А-а?
— Не забыла, — сказала она, чтобы не обижать его.
Он был в шинели и уходил на фронт!
— А я искал тебя. Веришь?
— Верю, — сказала она почти ласково, хотя знала, что это он сейчас просто так говорит. И вспомнила Вову. Подумала: «Он тоже, наверно, на фронте?»
Они изменились, наверно, с тех лет, когда их снимки были напечатаны в газетах. И сама она, конечно, изменилась. Сколько лет прошло? Три? Четыре года? Ох, много!
Интересно, сохранились эти газеты сейчас? Отец, пока не ушел на фронт, очень берег их. И потом, когда ушел, она дважды их смотрела. А осенью и зимой они с матерью пустили на топку все, даже стулья и кухонный столик, не говоря уже о книгах и газетах. Это когда она училась на курсах сандружинниц и одновременно на курсах телефонисток. Неужели и газеты спалили? Странно, но она не вспомнила о них, когда уходила сюда…
Маросейка — Покровка. Покровка — Маросейка. Улицы ничем не примечательные, может быть, даже самые заурядные. Они с приходом войны ни в чем почти не изменились. Меньше стало людей, но столько же осталось магазинов. И в них отоваривали оставшихся покупателей. Очереди — хмурые, тихие, притертые к заснеженным тротуарам — стояли возле магазинов. И в парикмахерской, ее парикмахерской, возле Девяткина переулка, вечно была очередь. Мастеров стало меньше, а очередь, пусть и маленькая, двигалась плохо: шли фронтовики и уходившие на фронт, шли уже инвалиды и просто знакомые мастеров, и все всем прощалось. И это, наверно, хорошо: война, а люди и парикмахерскую не забыли…
Маросейка — Покровка. Покровка — Маросейка. Улицы со старыми домами в два-три, самое большее — в три этажа, с облезлыми стенами, коммунальными квартирами, в которых тесно всюду, — и в комнатах, и в коридорах, и на кухнях, с маленькими грязными двориками, с витринами магазинов, которые вовсе не говорят о том, что есть на прилавках, и с людьми очень разными и хорошими. Сейчас она особенно понимала это, хотя раньше для нее люди были просто люди. А ведь это они тушили зажигалки во время ночных налетов немецкой авиации. И они днем работали, и не так, как она, на обычной секретарской должности, а работали на заводах, где делали пушки и танки, снаряды и машины. И они уходили на фронт — из военкомата в Армянском переулке и не из военкомата, а прямо с работы в сентябре, и октябре, и ноябре прошлого года. А еще раньше они, наверно, так же, только куда спокойнее, поскольку никто не знал об этом, уходили отсюда в Испанию, на Хасан, на Карельский перешеек, как прежде уходили на гражданскую и еще прежде — на баррикады революции. Ведь и тогда была Москва, и были эти улицы, и жили на них люди.
Ничем не примечательны ее улицы. И до войны, и сейчас, в войну. И, наверно, она не думала бы сейчас о них, если бы была там. Как и все, бегала бы на работу в свой райисполком. А по вечерам — на курсы. Как и все, бегала бы отовариваться и стоять в очередях у магазинов. Как и все, дежурила бы по ночам — то на крыше, то у подъезда дома, то на улице, отшучиваясь от проходивших мимо военных. А в перерывах между всем этим добывала бы дрова, а точнее — щепки, чтоб нагреть комнатную железную печку, согреться им с матерью, опускала бы чахлые маскировочные шторы и молила кого угодно, чтобы очередной взрывной волной не вышибло их перекрещенные бумажными крестами стекла. Иначе замерзнешь совсем!..
Она вспомнила мать. Не вспомнила, а явственно представила ее себе — закутанную, старую, голодную и одинокую.
Сейчас она с удивительной нежностью и глубиной поняла, кажется, что такое мать. Мать — боль рождения. Мать — беспокойство и хлопоты до конца дней ее. Мать — неблагодарность: она с первых шагов поучает и наставляет, одергивает и предупреждает, а это никогда никому не нравится ни в пять, ни в десять, ни в двадцать лет. Мать работающая, как отец, и любящая, как мать. Мать, у которой на руках ее дети, ее семья и вся страна. Ибо нет без нее ни того, ни другого, ни третьего.
А она так и не написала матери, хотя прошло уже несколько дней. В Москве — на формировании. И в дороге. И вот теперь здесь.
Она напишет ей. Напишет так: «Мамочка, милая моя мамочка! Все очень хорошо, и я очень люблю тебя. Не беспокойся. У нас все тихо и спокойно. Я в полной безопасности. Война скоро окончится, и мы опять всегда-всегда будем вместе. У меня тут много хороших друзей. Они заботятся обо мне. По ночам я сплю. Не мерзну. Ем нормально… Береги себя!..»
Никогда, пожалуй, прежде она не думала так о матери. И о своей улице…
На расстоянии, видимо, все чувствуется острее и больнее.
С младшим лейтенантом она познакомилась в дороге Тогда она не знала, как его зовут. Он сопровождал их — восемь девушек — почти от самой Москвы. Старая трех тонка везла их, полузамерзших и наивно-восторженных, добрых пять часов, и с каждым часом, а вернее, с каждым нелегким километром они все более скисали. Наверно, потому, что было холодно, и ноги затекали в переполненном кузове, и шофер то вел машину рывками, а то еле-еле тянулся и потому буксовал. Порой он и вовсе останавливался — бесцеремонно по своим делам, а затем еще подходил к кузову и, усмехаясь, спрашивал:
— Как, девоньки, не закоченели? Ничего! Теперь скоро! Еще часик с гаком!
И не спрашивал у них ничего другого, а разве у них не могло быть таких же своих дел?
Ох уж эта шоферня!
Поначалу Варя худо думала о шофере, а потом оказалось — все как раз наоборот. Часа через три езды шофер остановил машину в поле, вылез из кабины и позвал младшего лейтенанта. Они о чем-то посовещались, и тут младший лейтенант вдруг выдал:
— Ну, как там говорили в детстве: мальчики — нале, девочки — напра? Так давайте! Специальная остановка. Не стесняйтесь.
Она нарочно, назло, не вышла из кузова. Пусть другие девушки соскочили на землю и пошли куда-то. Она не пошла, ей не нравилось все. И то, как младший лейтенант оглядел ее с головы до ног — она была в коротком полушубке и стеснялась своих, как ей казалось, не очень красивых ног, — и то, как он спросил ее, оставшуюся в кузове: