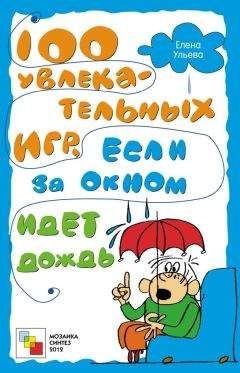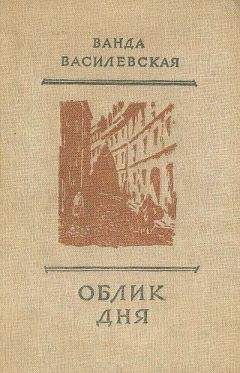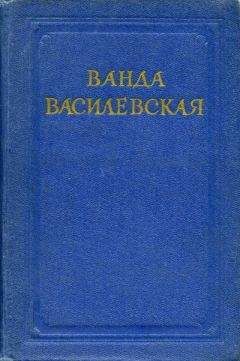Поплыла песня. Некогда, много-много лет назад её взрастила далёкая степь, её прошумел ветер над беспредельными лугами, прожурчала река, катящая свои воды в необъятную даль, в огромное шумное море. Мотив воплотился в песню, в человеческий голос, в звонкую, печальную кантилену. Не надо слушать слов. Плывёт песня о Грише, о его весёлой улыбке, о днях счастливой молодости, о яблонях, о ветвях яблони, в которых цвели звёзды в июньские, июльские ночи. О песчаных тропинках в сосновом лесу. О кустах малины, покрытых розовыми ягодами. О словах, которые шептались из губ в губы, из сердца в сердце. О солнечном совместном пути.
Песня умолкла, и вдруг болезненно сжалось сердце. Мария овладела собой. Нет, нет. Гриша есть, он близко, в воздухе ещё раздаётся его смех, звучат его слова. Ещё продолжается крепкое пожатие его загорелой руки с белым шрамом на пальце. А вот скрипка подхватила звук Гришиного голоса, защёлкала соловьиной песней, рассыпалась серебряным водопадом звуков. Гриша, Гриша, — шептало сердце. В нём билась крылышками нетерпеливая, непонятная радость, безграничное счастье, что вот существует Гриша. Быть может, он скитается по далёким дорогам, быть может, лежит в окопе, быть может, идёт в атаку, но он существует, её Гриша…
— Уже поздно, я пойду, — сказал Воронцов чужим голосом. Она открыла глаза. Будто вернулась из далёкого путешествия, из неведомой страны, где она шла рука об руку с Гришей.
— Поздно? — рассеянно переспросила она.
Он встал. Брови его были нахмурены, губы болезненно кривились. Она не пыталась удерживать его. Хотелось остаться наедине с Гришей.
Воронцов торопливо надевал пальто. Он едва коснулся её руки на прощанье и вышел навстречу пасмурному утру, резкому ветру, пронзительным и колючим каплям дождя. Он подставил им лицо, в душе обзывая себя самыми грубыми словами, сжимая в кулаки засунутые в карманы руки. Переполненный пассажирами трамвай только что отошёл. Он подумал, что так лучше, и большими шагами двинулся по мокрым улицам. Стремительной волной поднимался в нём гнев на самого себя. А потом на Марию. На её светлые, почти прозрачные волосы, на её тонкие, ловкие пальцы, на её сияющую изнутри улыбку, на её звучный голос, даже на её уютную, тихую комнату с фотографией мужа на столике, с фотографией мужа на стене. А потом на этого мужа. На этого Гришу, которого нет целый год и который всё же тут — мелькает в больничных палатах, едет с ней в трамвае, невидимый сидит за столом при свете лампы, не покидает её ни на минуту. Не настолько он глуп, чтобы не понимать, что происходит. Она обращается с ним, как ребёнок с плюшевым медвежонком, добрым мишкой. Ничем больше он для неё и не был. Он знал, чувствовал, кожей чувствовал непрестанное присутствие другого. Другой не отступал от неё ни на минуту.
— Я подлец, — сказал он громко и даже вздрогнул. Но на улице никого не было, никто не мог его услышать. Он глубже надвинул шапку на глаза и пошёл быстрей, прорезая наклонённой вперёд головой ледяные струи дождя. Тем временем Мария медленно поднялась и стала собирать со стола посуду. Зашлёпали туфли, скрипнула дверь.
— Ушёл наконец?
— Ушёл, ведь уже поздно.
— Ещё бы… Сидит и сидит.
— Чем это вам мешает?
— Да что, у него своего дома нет, что ли?
— Вы же знаете, мама, у него здесь никого нет.
— Всё равно, тут ему нечего искать.
Мария рассмеялась.
— Ничего он тут не ищет.
— Я-то знаю, я-то всякое в жизни видала, — ворчала старуха. — Оставь, я и сама соберу, а ты иди спать. Мало того — в госпитале намучишься, а тут ещё гости..!
— Ну, какие это гости, выдумаете вы, мама. Пришёл, посидел и ушёл. Неужели вам стакана чаю жаль?
— Глупости болтаешь. Чай…
Мария постелила себе на тахте. Захотелось спать, спать, спать. Броситься в постель одетой, чтобы не надо было стаскивать чулки, расстёгивать платье, чтобы сейчас же, немедленно…
— На что это похоже, сидеть столько времени, у тебя уж и глаза не смотрят.
Татьяна Петровна подошла к стене, вытащила вилку штепселя. Мелодия скрипки оборвалась на половине такта. Песня умолкла.
— Спи, спи, уже день совсем.
У неё не было сил отвечать, её охватила тёплая, мягкая волна, всё заколыхалось лазурной глубиной, золотой пеной, громкой мелодией, осиянной непонятным блеском. Это был сон, и хотя в нём не было Гриши, Мария знала, что это всё-таки сон о Грише, и золотая волна — это лишь его улыбка, и мелодия — это лишь его голос.
Далеко, далеко заиграли на башне куранты и пробили часы. Сквозь плотно закрытое окно доносились чистые, проникновенные звуки, в Мариином сне они превращались в краски и блеск, в какие-то непонятные, несказанно радостные слова. И так она опускалась на самое дно, где сон был мягкий и пушистый, как сажа, и в нём уже не было ни красок, ни звуков, ни слов, а лишь дающее силу и отдохновение глубокое, молчаливое спокойствие.
Но погружаясь в эту тишину и спокойствие, она отдавала себе отчёт в том, что спит и что, хотя в этом сне нет ни красок, ни звуков, ни форм, каким-то непонятным образом это тоже был сон о Грише.
В этот самый момент капитан Григорий Чернов очнулся от обморока. Ему показалось, что он возвращается из какой-то неизмеримой дали, где с ним что-то случилось. Но что? Он не мог вспомнить. Мир растворялся в ослепительном, гремящем блеске.
А теперь было тихо. Поразительно тихо. Ему подумалось, что эта тишина, верно, и разбудила его. Но он не понимал, что происходит вокруг. Прямо перед его глазами было что-то серое, он различал какие-то продольные полосы, длинные, прямые выпуклости и впадины между ними, одинаковые, однообразно повторяющиеся. Что это такое? Поле, участок? Борозды? Нет, это серо-коричневое пространство не поле. Ведь оно над ним, наверху, каким-то непонятным образом наверху. Словно земля стала дыбом, словно глядишь из самолёта, когда лётчик делает последний круг над аэродромом, перед тем как сесть. Оно подступало к глазам как-то странно близко, ему казалось, что он косит, рассматривая его. Он хотел отвести голову, чтобы видеть нормально, но не мог шевельнуться. Что же это такое? Гора на него свалилась, что ли? Или его засыпало? Но ведь он же дышит и чувствует на губах сырость воздуха. Дождь, что ли, идёт? Лицо было мокрое, и его мучительно стягивало. В голове мутилось, ничего невозможно было понять.
В этот момент до его ушей донёсся далёкий, глухой, знакомый звук.
«Орудия», — осознал капитан, и весь мир закружился сразу и стал на своё место. Серо-коричневые холмики и долинки — это были не поля, не борозды, а просто-напросто ткань чьей-то шинели, кто-то лежал над ним. Осознав это, он ясно рассмотрел её, к нему вернулась способность оценивать размеры и расстояния. И не гора свалилась на него, а просто он лежал под телами убитых. Он заметил ремень пояса, чью-то бессильно свесившуюся руку, подошву сапога, исковерканное дуло винтовки. Что-то мешало видеть, он смотрел только одним глазом. Он попытался вздохнуть глубже, но не мог. Невыносимая тяжесть лежала на груди, придавливала, душила. Что же это такое? Да вот эта страшная боль, места которой он не мог определить. Болело лицо, это наверняка. А всё остальное? Всё остальное словно перестало принадлежать ему, словно слилось в одно с этой грудой тел, которая возвышалась над ним.
Мысли путались, мутились. Он пытался привести их в порядок. Бой, видимо, кончился. Немцев нет. Грохот орудий доносился издали, всё в одном направлении, и капитан Чернов сообразил, что часть продвинулась вперёд. Значит так, немцев прогнали. Он пытался вспомнить, что произошло с ним самим, но добирался только до момента атаки, а затем всё исчезало в ослепительном свете… Как выяснить, что у него собственно болит и ранен он или нет? Рукой невозможно шевельнуть, её придавила страшная тяжесть. Шевельнуть бы хоть пальцем, почувствовать самого себя, найти себя в этой груде покойников…
Это не удавалось. Где они, его руки, левая, правая? Видимо, так одеревянели, что ими невозможно шевельнуть. Ноги… хоть бы одним пальцем… Ведь больно же, невыносимо больно, а где — неизвестно. Существовала, жила, думала, работала только голова. Остальное перестало принадлежать ему, стало частью того, что лежало вокруг него и на нём. Словно брёвна. Словно ворох старых тряпок. Кто они такие? Свои? Немцы? В глазу у него темнело, но всё же он рассмотрел цвета — да, это были свои. Ему пришло в голову, что сюда перенесли трупы с поля боя и сложили в одном месте. Но как он сам здесь очутился? Он же не мёртвый, это он знал твёрдо. Очень уж было больно. Как он сюда попал? Значит, был здесь кто-то, собирал тела, переносил их. Когда же это случилось? Между моментом, когда сверкнул ослепительный свет, и другим моментом, когда он увидел шинель, не понимая сначала, на что смотрит, казалось, прошло всего одно мгновение.
Шинели посерели, поплыли вверх и вниз. Григорий почувствовал во рту неприятный, тошнотворный вкус. Он погрузился в колеблющийся серый сумрак, в густой, подвижный, пульсирующий, как что-то живое, туман.