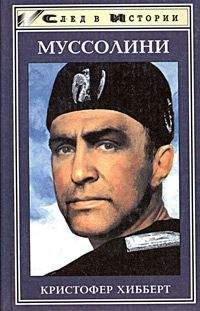Для немецких и итальянских министров и вельмож, генералов и всех, кто не первый раз видел и наблюдал эти встречи, зальцбургское свидание ничем не отличалось от предыдущих.
Так же, как и обычно, предметом разговора была континентальная политика и мировая война. Так же, как и обычно, вели себя при встрече фюрер и дуче: приближенные люди хорошо понимали отстоявшееся, выкристаллизовавшееся чувство одного к другому. Они знали тайное ощущение неравенства, не покидавшее Муссолини, знали, что он всегда раздражен инициативой, исходящей не из Рима, решениями, рождающимися в Берлине, совместными декларациями, которые его почтительно и торжественно просят подписывать, но не приглашают разрабатывать, ночными побудками, так как Гитлер имел обыкновение без церемоний вызывать патриарха фашизма для разговоров перед рассветом, в час крепкого сна.
А Чиано знал и постоянное утешение Муссолини, считавшего в глубине души Гитлера дураком; это утешение было в том, что сила фюрера лишь в статистическом, цифровом превосходстве немецкой армии, промышленности и населения над итальянцами; сила Муссолини была в самом Муссолини. Дуче даже любил высмеивать слабодушие итальянцев, это оттеняло личную силу человека, пытавшегося сделать молот из народа, который шестнадцать веков был наковальней. И при этом свидании приближенные люди, ловившие каждый жест и каждый взгляд своих хозяев, как и на предыдущих, отметили: отношения фюрера и дуче, и внешне и тайно-внутренне, были такими, как обычно. И такой же, как обычно, была внешняя суровость обстановки, подчеркивавшей военное величие и всесилие встречающихся. Возможно, некоторое отличие было в том, что речь в Зальцбурге шла о решающем, видимо последнем, военном усилии, так как на всем европейском массиве уже не оставалось вооруженного противника, кроме отступивших далеко на восток советских армий. Может быть, эту особенность Зальцбурга отметил бы будущий национал-социалистический историк. Возможно, что некоторое отличие от предыдущих их встреч было в особо уверенном, чрезвычайно уверенном настроении Гитлера.
Но все же было одно действительное отличие зальцбургской встречи от всех предыдущих встреч Гитлера с Муссолини. Оно заключалось в том, что вождь фашистской Германии, жаждавший войны, упивавшийся войной, безгранично самоуверенно и настойчиво заговорил о мире, высказав в этом свой бессознательный страх перед порожденной им войной. Шесть лет он неизменно побеждал — сатанинским насилием и военным блефом. Он был уверен, что в мире есть лишь одна действительная сила — это сила его армии и его империи; все, что противостояло ему, было мнимым, условным, нереальным и невесомым. Действительным и весомым был его кулак. Этот кулак разрывал, как паутину, одну за другой военные, политические и государственные комбинации Европы. Он искренне верил, что, возродив первобытные зверства и вернувшись к дубине человеческого прапращура, он открыл новые пути истории. Он доказал бессилие Версальского договора и порвал его, истоптал, а затем по-своему переписал на глазах президента Америки, премьеров Франции и Британии.
Он восстановил в Германии воинскую повинность, начал создавать запрещенные Версальским договором флот, армию, воздушные силы. Он ремилитаризировал Рейнскую область, введя туда тридцать тысяч солдат. Оказалось, эти силы достаточны, чтобы изменить решающий результат Первой мировой войны; для этого не нужны были миллионные армии и громады тяжелого вооружения. Удар за ударом, одно за другим он уничтожил государства послеверсальской Европы — Австрию, Чехословакию, Польшу, Югославию.
Но чем больше был его успех, тем темней становилось в его голове. Он не мог ни понять, ни представить себе, что в мире существуют не одни лишь мнимые силы, не только политическая игра, не только категории пропаганды, не только правительства, заражающие своим бессилием солдат и матросов,— все то, с чем счастливо расправлялась его дубина.
Двадцать второго июня 1941 года германские армии вторглись в Советскую Россию. Первоначальный успех скрыл от Гитлера природу того гранита, тех духовных и материальных сил, против которых он ополчился. То были не мнимые силы, то были силы великого народа, заложившего фундамент будущего мира. Летнее наступление 1941 года, опустошительные зимние потери обескровили германскую армию, вызвали перенапряжение военной промышленности. Гитлер уж не мог, как в прошлом году, одновременно наступать на юге, на севере, в центре. Война сразу потеряла наиболее привлекавшие его свойства — она стала медленной, тяжелой. Но он не мог не наступать — в этом таилась его обреченность, а не его сила. Он начал тяготиться войной, стал бояться ее, а она все разрасталась и разрасталась, эта зажженная им десять месяцев назад война с Россией, он уже не был властен над ней, ее нельзя было потушить, она ширилась, как степной пожар, ее размах, ее ярость, ее сила, ее продолжительность росли и росли, и ему нужно было во что бы то ни стало закончить ее, но оказалось, что успешно начать войну легче, чем успешно закончить ее.
Вот в этом-то, пока неприметном, отличии и был признак действительного, а не ложного и мнимого хода исторических сил, впоследствии приведшего к гибели почти всех участников того зальцбургского совещания, на котором фашистский диктатор объявил о своем последнем, решающем наступлении на Советский Союз.]
3
Петру Семёновичу Вавилову принесли повестку [в самое неподходящее время: подождал бы военкомат еще месяца полтора-два, обязательно оставил бы семью на год с дровами и хлебом].
Что-то сжалось в душе у него, когда он увидел, как Маша Балашова шла через улицу прямо к его двору, держа в руке белый листок. Она прошла под окном, не заглянув в дом, и на секунду показалось, что она пройдет мимо, но тут Вавилов вспомнил, что в соседних домах молодых мужчин не осталось, не старикам же носят повестки. И действительно, не старикам: тотчас загремело в сенях,— видимо, Маша в полутьме споткнулась, и коромысло, падая, загремело по ведру.
Маша Балашова иногда заходила по вечерам к Вавиловым, еще недавно она училась в одном классе с вавиловской Настей, и у них были свои дела. Звала она Вавилова «дядя Пётр», но на этот раз она сказала:
— Распишитесь в получении повестки,— и не стала говорить с подругой.
Вавилов сел за стол и расписался.
— Ну все,— сказал он, поднявшись.
И это «все» относилось не к подписи в разносной книжке, а к кончившейся домашней, семейной жизни, оборвавшейся для него в этот миг. И дом, который он собирался покинуть, предстал перед ним добрым и хорошим. Печь, дымившая в сырые мартовские дни, печь с обнажившимся из-под побелки кирпичом, с выпуклым от старости боком показалась ему славной, как живое, всю жизнь прожившее рядом существо. Зимой он, входя в дом и растопырив перед ней сведенные морозом пальцы, вдыхал ее тепло, а ночью отогревался на овчинном полушубке, зная, где печь погорячей, и где попрохладней. В темноте, собираясь на работу, он вставал с постели, подходил к печи, привычно нашаривал коробок спичек, высохшие за ночь портянки. И все, все: стол с черными полумесяцами от горячей сковороды, и маленькая скамеечка у двери, сидя на которой жена чистила картошку, и щель между половицами у порога, куда заглядывали дети, чтобы подсмотреть мышиную подпольную жизнь, и белые занавески на окнах, и чугун, настолько черный от копоти, что утром его не различишь в теплом мраке печи, и подоконник, где стоял в банке красненький комнатный цветок, и полотенце на гвоздике,— все это стало по-особому мило и дорого ему, так мило, так дорого, как могут быть милы и дороги лишь живые существа. Из троих его детей старший сын Алексей ушел на войну, а дома жила его дочь Настя и четырехлетний, одновременно разумный и глупенький, сынок Ваня, которого Вавилов прозвал «самоваром». И правда, он был похож на самовар: краснощекий, пузатенький, с маленьким крантиком, всегда видным из раскрытых штанишек, деловито и важно сопящий.
Шестнадцатилетняя Настя уже работала в колхозе и на собственные деньги купила себе платье, ботинки и суконный красный беретик, казавшийся ей очень нарядным. [Она надевала беретик и смотрелась в зеркало с наполовину облупившейся амальгамой — одновременно видела и беретик и пальцы, которые держали зеркало, но лицо свое и беретик она видела отраженными в зеркале, а на пальцы смотрела, как через окошечко.] Вавилов, глядя, как дочь, возбужденная и веселая, в знаменитом берете, выходила гулять, шла по улице среди подруг, обычно с грустью думал, что после войны девушек будет больше, чем женихов.
Да, здесь шла его жизнь. За этим столом сидел ночами Алексей, готовившийся в агрономический техникум, вместе с товарищами решал задачи. За этим столом Настя читала с подругами хрестоматию «Родная литература». За этим столом сидели сыновья соседей, приезжавшие гостить из Москвы и Горького, рассказывали о своей жизни, работе, и жена Вавилова, Марья Николаевна, говорила: