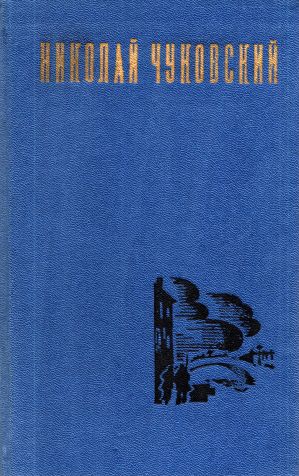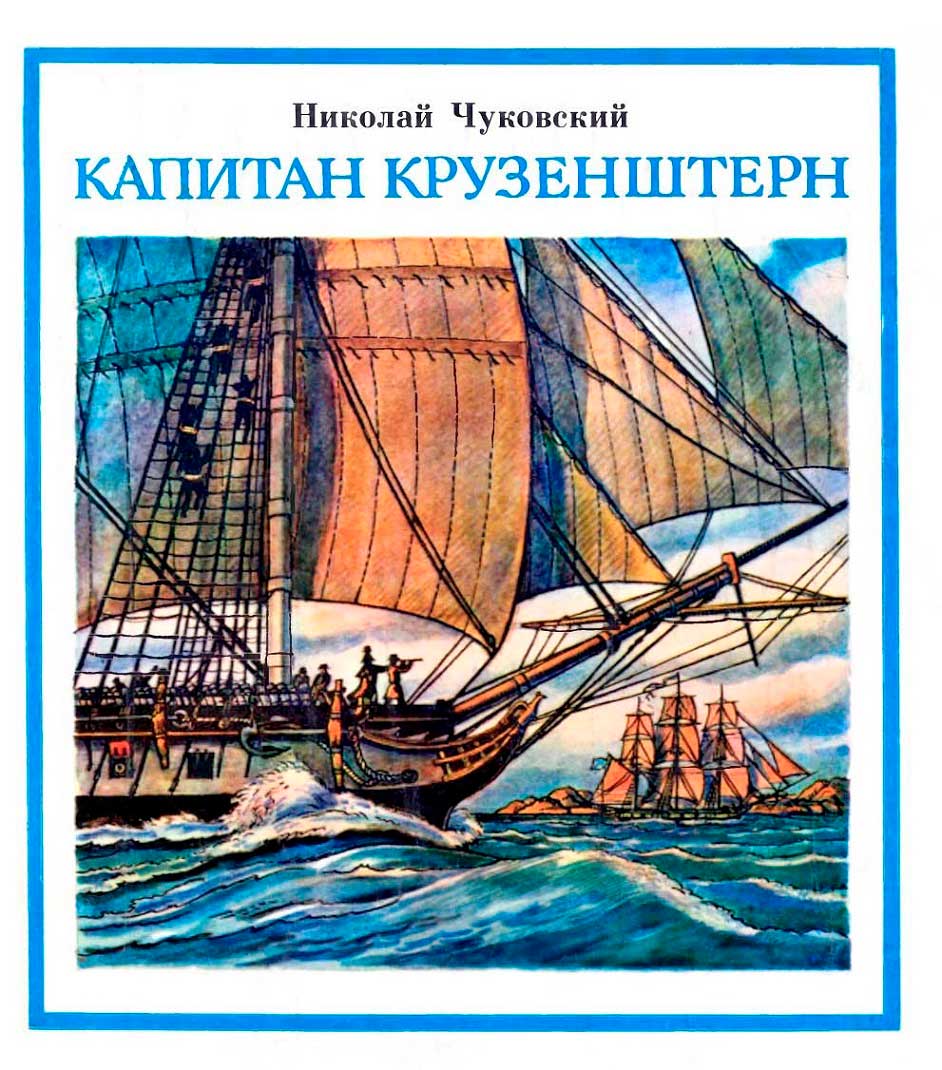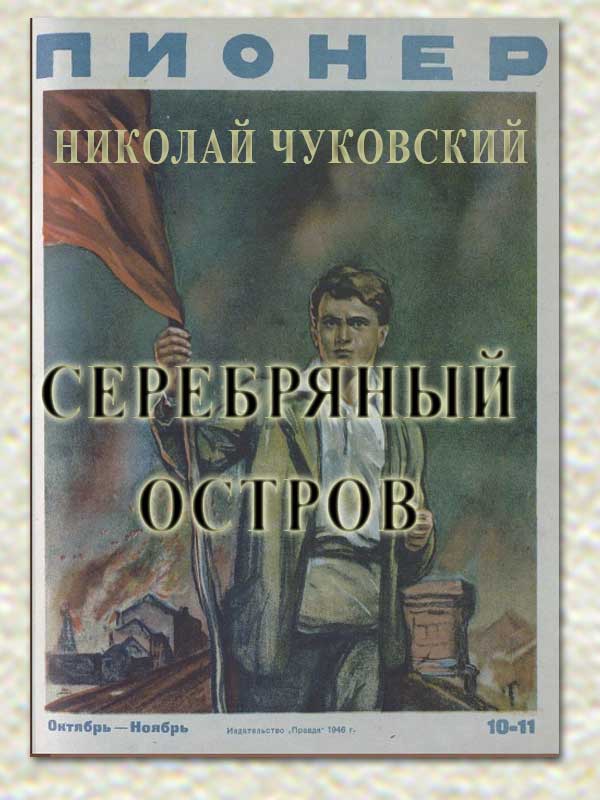Не знаю, но с нежной грустью удалось ему изобразить душевное состояние усталого победителя. Его смерть — не поражение, а победа жизни. Не зря же над мертвым телом Федора Иваныча склоняется малыш, наследник жизни, со смешной и ласковой кличкой Полупочтенный.
В последние годы Чуковский часто обращался к теме любви, он оказался тонким психологом в таких произведениях, как повесть «Варя» (1957), рассказы «Трудна любовь» (1959), «Суд», (1960), «Цвела земляника» (1964). Один из последних рассказов писателя — «Неравный брак» (1962) — история любви работницы библиотеки Веры Петровны к пареньку, который моложе ее, недавно демобилизованному и готовящемуся к экзаменам в медицинский институт. Рассказанная с точки зрения женщины, пораженной внезапной любовью, эта история удивительна по степени раскрытия психологии женского чувства. Работа зрелого мастера слова.
Снова и снова возвращался Чуковский к трагическому времени ленинградской блокады. Об этом его шедевр — «Девочка-жизнь».
В литературе есть вещи, не поддающиеся научному анализу, даже новомодному побуквенному и цифровому подсчету структуралистов — впрочем, кажется, они и не ставят себе такой задачи. Попробуйте определить источник магического влияния на нас лермонтовской «Тамани». Всего-то несколько страниц, попытайтесь пересчитать все буковки и запятые в бессмертной новелле, соберите в столбцы все суффиксы, не оставьте без внимания ни одного наречия или приставки, то есть повторите титанический труд нынешних мастеров расчленения живой ткани, — я нисколько не хочу умалить их стараний и даже достижений, — тайна поэзии «Тамани» останется неразгаданной. Вы спросите себя: в чем же в самом деле тайна? Отвечая на этот вопрос, мы назовем не полудетективный сюжет, не систему лиц, включенных в торжественное шествие над Керченским проливом, а только свечение месяца в сыром воздухе над скалистым берегом поселка, только видение девушки в платке, опоясывающем ее тонкий стан, только тьму и восковой огарок в деревянной тарелке.
Я далек от дерзкой мысли какого-либо уподобления рассказа «Девочка-жизнь» — «Тамани», только надо же объяснить колдовское действие рассказа и на меня, и, как я знаю, на многих, многих читателей. Необычайно поэтична сама фигурка, прямая и стройная, укутанной в белый платок пятнадцатилетней девочки, мелькающей по всем этажам вымирающего дома, — она должна каждого ослабевшего жильца успеть навестить, вновь пробудить в нем волю к жизни:
«— Как им хочется нашей смерти. А мы должны им назло — жить, жить, жить!..
— Он не умрет. Я с ним поговорю…
— Вы дойдете!»
И когда исчерпаны все средства, чтобы поддержать дыхание в полумертвом человеке, этот гипнотический приказ пятнадцатилетней девочки: «Вы живой. Живой!» — сотворяет чудо. Люди начинают вручную вращать колесо плоскопечатной машины, начинают верить, что еще можно добраться до отдаленной части осажденного города, что еще можно и нужно время от времени подтянуть на стенке гирьку ходиков…
Есть одно свойство у этого рассказа, которое сознаешь не сразу. Текст его обладает необъяснимым свойством светимости — вот в чем, кажется мне, тайна шедевра. Я прочитал множество рассказов советских писателей, составлял их антологии, помню рассказы трагические, как «Отче наш» В. Катаева, подобные гимну, как «Бессмертье» другого Катаева — Ивана, пленительные, как «Соранг» Паустовского, овеянные воздухом нашей истории, как «Поезд на юг» Ал. Малышкина. Но подобного свойства светимости никогда не встречал. Хоть убейте — только в «Тамани»!
…Остались в журналах и сборниках прекрасные воспоминания Чуковского о Николае Заболоцком, Осипе Мандельштаме, Юрии Тынянове, Евгении Шварце, Льве Успенском. Мне, естественно, хотелось больше узнать о жизни самого Николая Корнеевича, и я узнавал о нем очень многое из этих литературных портретов. В очерки врывалось само Время с его неповторимыми пейзажами, бытом, средой, — то это Ленинград, с Невским начала двадцатых годов в рассказе о Тынянове, то Москва в рассказе о Мандельштаме. Сквозь строки воспоминаний читатель видел великую и трудную эпоху становления социализма в России, начинал понимать, как богата, неизмеримо богаче наших привычных представлений была духовная жизнь народа, его литература — она была талантлива и многообразна.
Так получилось — сблизились не потому только, что одни и те же бомбы летели над нами в ту блокадную зиму, а потому, что мы жили в одном государстве. Мысли его были близки мне. Помню, мы говорили об оккупации англичанами Баку, о казни в песках двадцати шести комиссаров, он знал это лучше меня, а потом расспрашивал о смерти Инессы Арманд в краю моего детства, тоже на Кавказе.
Мы ездили по Кавказу, и запомнился мне вечер в маленьком провинциальном городке. В ресторане гостиницы мы заслушались застольных песен пировавших грузинских колхозников; там тамадой был невеселый председатель, он, как заседание, вел пир, и был оркестрик, и было «Поющее горло» — что-то брейгелевское было в грустно поющем крестьянине.
А потом — тополя Араратской долины, и сине-белый Арагац, и сакли, и виноградники. Николай Корнеевич, помню, сказал в раздумье:
— Сарьян заставляет полюбить Армению. — Утром мы побывали в его мастерской, и после полотен его молодости знойные армянские краски показались нам даже прохладными, радовали своей свежестью.
В маленькой стране можно увидеть много. Армения встречала и провожала нас облаками — необыкновенным небом над Севаном, было в нем что-то библейское или будто увиденное во сне, но грозное. Белые столбы облаков поднимались над каменистым полем, и синий откос Арарата тоже вставал в кипени облаков. Стада возвращались в долины. В тот день Николай Корнеевич рассеянно повторял:
— Было?.. Бывает?..
— О чем вы задумались, Николай Корнеевич?
— Это потом, — пробормотал Чуковский.
В музее Эчмиадзинского собора нам показали дары разных столетий, присланные армянами, разбросанными по всему свету, — из Индии, Ирана, Москвы и Амстердама. Вот, в городе Шуше, некая армянка пять лет переписывала евангелие, это ее дар. Под каменным полом собора, в открытых траншеях, горели электрические лампочки, — это обновляли полы, мрамор для полов католикосу доставили из Италии. Нам показали базовые камни IV века, и монах-экскурсовод без всякой необходимости страстно доказывал нам, что изо всех крестообразных соборов мира Эчмиадзинский — самый старый… А потом мы посетили выставку народного хозяйства…
Здесь повсюду резал глаз контраст прошлого и будущего. И Арарат, куда бы мы ни попали в тот день, повсюду, за домами, за полями — Арарат.
— Армяне как будто боятся потерять из виду свой Арарат.
Вернувшись в номер гостиницы, я услышал один из самых взволнованных монологов Чуковского:
— Если попробовать написать рассказ об этом дне, обо всем, что можно было успеть передумать, обо всем многообразии техники и науки, которое, как всегда, погружает меня, дилетанта, как бы в летаргическое состояние… Написать об этом испытанными средствами, художественными приемами, какими пользовался Чехов, Бунин, Толстой. Ничего не получится. Нет, получится пародия. А почему?