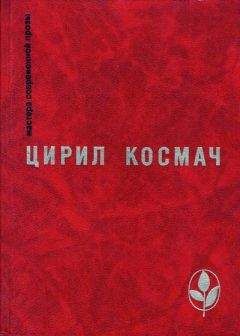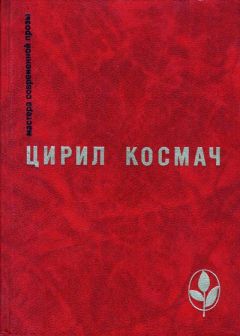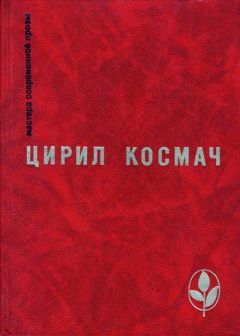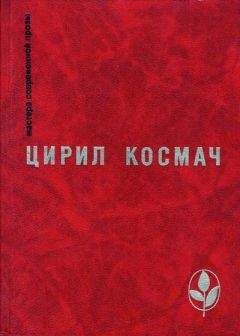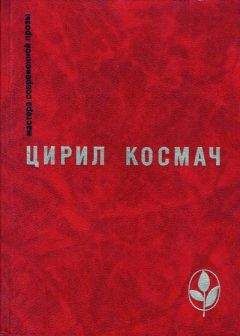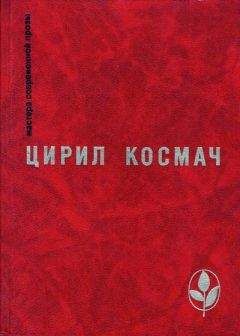Ничто не остается тайным, и в тот же день мы узнали, что расстрелян был чешский офицер. Никто не поминал кадета, но мы были убеждены, что казнили именно его, в особенности когда вспоминали его сравнение Австрии с разбитой тарелкой. Странно, я, близко видевший человека, приговоренного к смерти и расстрелянного, уже не мог вспомнить, каков он был.
Когда вечером в наш дом вошел кадет, мы остолбенели. Он был бледен и дрожал. Спросил деда, можно ли наломать несколько веточек самшита. Дед закивал головой. Кадег пошел за хлев, наломал довольно много веток, сплел венок, перешел вброд Идрийцу и положил венок на свежую могилу. Мы стояли во дворе и молча глядели на него. Подойдя к дому, он вдруг упал на колоду, на которой пилили дрова. Мама тотчас кинулась за водой и принесла ее в ковше. Кадет жадно пил, и рука его так дрожала, что вода текла по подбородку. Дед сходил за домашней водкой. Кадет выпил три стопки, немного успокоился и даже попробовал улыбнуться. Внезапно он, точно вспомнив что-то, вскочил, торопливо вышел в кухню, вернулся с тарелкой, бросил ее на каменный порог, наступил ногой на черепки и с ненавистью сказал:
— Так будет с Австрией!..
Никто не проронил ни слова.
Кадет вынул из кармана кошелек и дал каждому из нас, детей, по бумажке. Мама тут же отобрала у нас деньги, чтобы вернуть их, но кадет вдруг вытянул из-под рубашки медальон, рванул цепочку и втиснул медальон маме в кулак, в котором она держала отобранные у нас деньги. Он сказал по-чешски что-то, чего мы не поняли, как, впрочем, не поняли бы и в том случае, если бы он говорил по-словенски, — так дрожали его челюсти, сведенные судорогой. Мама снова поднесла ему воды, только кадет не стал пить. Он быстро повернулся и зашагал по тропинке, взбирающейся на холм. Мама побежала было за ним, чтобы отдать ему деньги и медальон, но кадет летел как стрела. Мама остановилась у скалы над нашим домом. На Нижней поляне кадет еще раз обернулся, помахал белой рукой и исчез.
На следующий день ни свет ни заря из лесу примчался семнадцатилетний тогда Шмонов Изидор. Взрывом снаряда, разорвавшегося поблизости, ему оторвало руку и выбило глаз, и теперь он готовился к своей будущей профессии браконьера. Он ворвался в дом, рухнул на лавку рядом с дедом и прохрипел:
— Застрелился, черт!..
— Кто застрелился?
— Кадет. В Обрекаровой дубраве лежит… Ох, дурак чертов! Пустил себе пулю в лоб, хотя никакой надобности не было! — покачал головой Изидор, разумея под словом «надобность» голод.
Дед перекрестился и вздохнул:
— Боже, прости его, грешного! Грешен он был…
— К Войнацам побегу! — вскочил Изидор и исчез за углом дома.
Не прошло и часу, как из-за этого же угла, плача, появилась Юстина. Увидев деда, она остановилась, стихла и понурила голову. Мы давно не видели ее и потому были поражены тем, как она изменилась. Ее живот был непомерно велик, лицо, покрытое восковой бледностью, исхудало и стало таким маленьким, что почти исчезало под пышными волосами.
— Входи, входи! — дружелюбно позвал ее дед.
В это мгновение из дому вышла мама. Юстина точно проснулась. Она заплакала и с неожиданной быстротой и гибкостью кинулась к маме. Та расставила руки, и Юстина повисла у нее на шее. Мама, не говоря ни слова, отвела ее в дом и усадила в сенях на сундук. Юстина сначала плакала, а потом начала страшно стонать и корчиться.
— О господи, да ведь еще не время!.. — воскликнула мама, подняла Юстину, которая стонала все громче и громче, и повела в свою комнату. Вскоре она приоткрыла дверь и крикнула с лестницы:
— Беги за Терезией? Быстро! Быстро!
Я выбежал из дому и полетел, что было силы. Любой малец всегда готов из кожи вон выскочить, чтобы как можно скорей донести важное известие. Когда я ворвался к бабушке Терезии и выпалил, что кадет застрелился и что Юстина у нас, лежит на маминой кровати и стонет, Терезия покачала головой и пробормотала себе под нос:
— Отродясь ничего такого не слыхивала… Она же еще совсем ребенок… Сколько ей лет-то?..
Она подумала и сама ответила на свой вопрос:
— Шестнадцать ей всего.
В ту же ночь в нашем доме раздался детский плач.
— Юстина купила себе девочку, — сказала нам Терезия. — И правда, она такая махонькая, что Юстина могла бы ее в кармане принести, — с улыбкой сказала она маме, засовывая руку до локтя в бездонный карман своей юбки, черной, в горошек.
Ребенок был так слаб, что бабушка Терезия и мама сами его окрестили.
— Как ее назвали? — спросили мы.
— Боженой, — с удовольствием сообщила Терезия.
Наутро заявились Войначиха и ее сестры, каждая со своим младенцем на руках. Они держались робко и приниженно. Из почтения к маме они жались к стене, издали глядя на Юстину и ее ребенка, сморкались, утирали блестящие носы и причитали:
— Ох ты, дитятко разнесчастное!..
— Не жилец она на белом свете…
— К ангелочкам пусть идет, им хлеба не требуется…
Мама довольно долго терпела это, а потом, ни слова не говоря, вытолкала их в сени. Однако от сестер не так-то просто было отделаться. Они уселись в сенях на сундуке и занялись кормлением своих младенцев.
— Ешь! Ешь давай! — говорила Войначиха своему ребенку. — Ешь, ешь! Другого-то мне тебе дать нечего. Дома уж ничего не осталось. Даже брюквы нету…
Дед, чинивший в сенях корзину, встал, стянул с Войначихиной головы платок и поднялся по лестнице в кладовую. Возвратился он с узелком, из которого выглядывали сухари и который он поставил перед Войначихой.
— Да воздаст вам бог!.. — заныла Войначиха.
— Тебе он уже воздал! — жестко сказал дед, которому все же не удалось до конца совладать с недобрым чувством к ней.
Войначихи встали, еще раз высморкались и утерли свои курносые носы, взяли узелок и собрались уходить. На пороге они остановились и спросили:
— Когда нам за Юстиной-то приходить?
— Скажем потом, — хмуро ответил дед, не подымая глаз от своей корзины.
Юстина пролежала у нас целый месяц. Когда она поднялась на ноги и собралась домой, я нес ее корзину, в которой были сухари, кулек сахару, три горсточки белой муки и четыре яйца. На дворе Юстина остановилась, не в состоянии уйти. Она вытирала слезы.
— Придешь еще… Тут же близко, — утешала ее мама.
— Ну, счастливо! — вздохнула Юстина и пошла.
— Счастливо!.. — проговорили мы все.
Дед, который до того момента не интересовался ребенком Юстины, подошел к ней. Он осторожно приподнял уголок пеленки с личика Вожены и всмотрелся в него. Потом усмехнулся и шутливо сказал:
— Ах ты! Настоящая ты у меня кадетка!..
Юстина заплакала навзрыд — и проплакала почти до самого дома.
Октябрь был на исходе. Переменчивый, многокрылый осенний ветер, который испокон веку неизменно навещает нас об эту пору, прилетел в долину и начал хозяйничать. Он кидался от холма к холму, беззвучно валялся по скошенному гречишному полю и с шершавым шорохом шнырял меж высохших стеблей кукурузы. Он срывал пожелтевшие листья с деревьев и завивал столбом пыль на разъезженных дорогах, хлопал лоскутами обветшавшего толя на крышах солдатских бараков и по ночам протяжно свистел в щелях старых домов. Занимаясь всеми этими делами, он не упускал из виду своего хмурого неприятеля — толстые серые облака, уныло и неподвижно глядевшие с неба. Он играл с ними, как охотничья собака играет с изнемогающей дичью: коварно затаивался, а когда облака спускались ниже, он взметывался, изогнув свою упругую спину, быстро рвал их в клочья и отгонял назад, в небесные выси. Пресытившись этой однообразной игрой в нашей долине, он среди ночи улетал, и ненадолго устанавливалась отрадная неподвижная тишь, словно кто-то накрывал долину толстым и мягким старинным бархатом. Разливался запах прелого листа и отдыхающей влажной земли. Но уже под утро хмурые, разбухшие облака теснились друг к другу, сливаясь в сплошную тяжелую серую массу, которая опускалась низко-низко, и начинался затяжной осенний дождь. Ручьи и реки на глазах вздувались, разливались по вытоптанным, исхоженным солдатскими сапогами лугам и несли в Сочу мутную, желтую воду. А из долины Сочи доносился пугающий грохот и глухой гул, точно там какая-то яростная сила крушила и дробила древние горы. Тяжелое, круглое эхо орудийных выстрелов отдавалось в долине, перекатывалось от склона к склону, бухая в стены старых халуп, так что дребезжали стекла и сотрясались двери, еще держащиеся на проржавевших петлях. Лающие отзвуки канонады катились, становились все отчаянней и протяжней, пока наконец не задыхались в узких ущельях, не найдя выхода на равнину, где они могли бы разлечься во всю ширь и мирно умолкнуть.
Фронт вдоль Сочи выдерживал двенадцатое наступление. С Крна всю ночь обшаривали склоны окрестных холмов острые лучи прожекторов. Под блестящими лезвиями этих лучей в темных, сырых от дождя ущельях и котловинах, в самой черной бездне шумела и металась бурная река из многих тысяч вооруженных людей. И волны этой реки ударялись о наш дом.