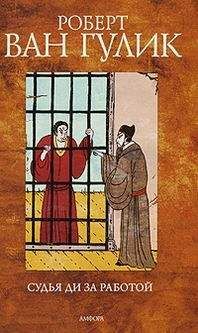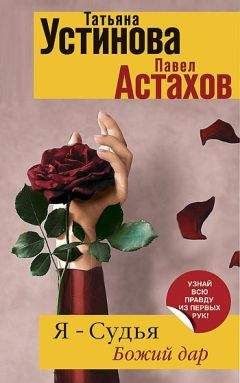– А разве это не твой почерк и не твоя подпись? – он поднес к его лицу газету. – Да плевать я хотел на то, что ты и не писал, и не подписывал. Только ты немножко просчитался. Маршал и Президиум отказали тебе. Так что ты оказался в говне по самые уши, генерал. Просил о помиловании, а мы твоей просьбой подтерли одно место. Я не буду говорить, какое, потому что генерал должен уметь выбирать выражения. Не так ли, генерал Дража?
– Вы просто чудовища. Вы… В нашем языке нет слов, которыми можно вас назвать.
– Я гений и генерал всех генералов! А ты… И кто только дал тебе такое имя? Дража! Меня даже одно твое имя раздражает, – он вытащил револьвер из кобуры и принялся стрелять в воздух возле головы генерала. – Что, неуютно, генерал? Теперь или немного позже, какая разница, – тут он посмотрел на часы. Ух, как бежит время. Еще немного и уже полночь. А потом еще немного и уже заря.
– Мразь! Скотина! – Дража попытался плюнуть в него, но не смог – так пересохло во рту. – Стреляй, трус!
Охранники, которые смывали пятна крови крестьянина Тарабича, побросали тряпки и взялись за оружие.
– Не беспокойся, когда захочу, я на куски разнесу твою бандитскую голову. Но на тебя и пулю тратить жалко. Тебя бы следовало прикончить так, как твоего Павла Джуришича. Перерезать глотку – и в колодец. И этот ваш козел, Васич, он тоже получил то, что ему причиталось. Какой расстрел! Расстреливают людей, а не таких скотов, как ты и твои бандиты. Я все твое семя истреблю, Дража. Не оставлю в живых ни коровы, ни курицы четницкой. Все твои кончат так, как та сволочь, которую мы перебили под Кочевьем и Милевиной, – и он протянул онемевшему Драже очки. – На, надень, косоглазый, да рассмотри меня получше. Там, под Милевиной, есть в одном месте расщелина в земле, глубиной, наверное, с километр, говорят, что под землей она соединяется с Дриной. Вот тут-то я… эх, мать их за ногу, их там было тысяч двадцать, этих твоих бандитов, которых ты мобилизовал в Шумадии в сорок четвертом… Как там пелось в этой вашей антинародной песне: «Всех с шестнадцати и старше приглашает к себе Дража!» Я этих бандитов, недоростков просто засыпал листовками с самолета, чего только им не наобещал. Вы, мол, еще дети, война, мол, заканчивается, знаем, что вас мобилизовали насильно, возвращайтесь в Сербию, все по домам, сдавайте оружие. И так далее, и тому подобное. Эх, как же они к нам побежали, и как мы их встретили! Десять дней подряд сбрасывали мы этих бандитов в пропасть под Милевиной. Свяжешь их цепочкой человек по двадцать, поставишь первого на краю расщелины, шарахнешь его молотом по башке, а уж он за собой всех остальных в пропасть утянет! Был там один гад… От страха сопли развесил до колен, заныл: «Не убивайте, товарищи, не надо, братья, я же единственный мужик в семье!» А один из моих ему отвечает: «Этого-то мы и хотим, мать твою четницкую! Всех вас подчистую истребить, все ваше семя великосербское!» – и расколол ему башку.
Треснула как арбуз, знаешь, как трескается на куски зрелый арбуз… Ты ведь, наверное, любишь арбузы, генерал! – скрипел зубами Крцун.
– Вы еще заплатите за кровь этих несчастных детей и того крестьянина, которого вы здесь убили, заплатите за все могилы, за все тюрьмы! Пошел вон отсюда! – шагнул к нему Дража, но охранник оттолкнул его, и он упал.
– А за твою кровь, и за мангал, и за крысу, сволочь великосербская, я тоже заплачу? – расхохотался Пенезич. – А сколько это стоит, и кому платить? Расскажи своей Елице обо всем, что мы с тобой делали!
– У Бога и у Сербии память гораздо крепче, чем вы думаете, и за это придется расплачиваться вашим детям и внукам. Им будет стыдно вспоминать ваше имя.
– Нашел чем пугать, ты бы лучше подумал, сколько тебе жить осталось, – засмеялся Крцун, и тут же насупился: – Ты расплатишься уже сегодня! Ты больше никогда не увидишь восход солнца. Это твоя последняя ночь, генерал! – Лицо его опять расплылось в улыбка. – Товарищ Сталин будет жить вечно. И товарищ Тито тоже. Со дня на день советские ученые изобретут таблетки против смерти, и такие таблетки получим все мы. Мы обретем бессмертие и раздавим международную буржуазную реакцию! – Он топнул ногой. – А сейчас готовься к встрече с супругой. Я зайду позже.
Он поспешно освободился от мокрой и окровавленной одежды, от которой несло потом и грязью, помылся под струей воды из крана, стараясь освежить свое измученное тело. Растопыренными пальцами постарался привести в порядок волосы. При этом он постоянно оглядывался на дверь камеры, надеясь, что жена немного запоздает и у него будет больше времени привести себя в порядок и снова походить на мужчину и офицера.
Сердце колотилось у него в горле, он старался остановить кровь, сочившуюся из рассеченной брови и разбитого носа, затирая ссадины табаком и прижимая их пальцами. В смятении шагал из угла в угол, как будто ища что-то и все время подтягивая вверх брюки, сползавшие с его исхудавшего тела, стыдясь того, что у него нет не только ремня, но даже куска веревки. Ему не хватало зеркала, чтобы составить хоть какое-то представление о том, как он выглядит. Собственно, он не видел себя в зеркале с первого дня, как его схватили. Только один раз, во время суда, когда из-за жары и духоты в зале было разрешено открыть окно, он на мгновение увидел в стекле отражение какой-то тени, отдаленно напоминавшей его самого. Ему не позволяли пользоваться зеркалом даже тогда, когда в ходе суда дважды к нему приходил парикмахер подровнять волосы и бороду. Огромная радость от сознания, что сейчас он увидит свою жену, охватила его с такой силой, что он затрепетал как юноша перед свиданием с любимой и совершенно забыл, где находится. Ему казалось, что он перенесся в то давнее лето, когда он торопился на футбольный матч и, пробираясь через уличную толпу, пытался докричаться до своего приятеля Груи Поповича, которого неожиданно увидел далеко впереди. Прибавив шагу, чтобы догнать его, он обогнал какую-то девушку и нечаянно сильно задел ее локтем. «Простите», – пробормотал он и снова окликнул Грую, который так и не услышал его.
«Хулиган!» – воскликнула девушка, и он повернул голову в ее сторону.
Она была на голову ниже него и сейчас прижимала пальцы к раскровавленной губе, а глаза ее метали взгляды, предвещавшие грозу.
«Прошу вас, извините», – он вернулся к ней и протянул носовой платок.
«У меня есть свой», – отрезала она и нагнулась за книгой, которая выпала у нее из рук при столкновении с ним.
«Я подниму», – он схватил с земли книгу и платком обтер от пыли голубой переплет.
«Ведете себя так, как будто вы в лесу», – сказала она все еще сердитым голосом и вырвала из его рук книгу.
«Я хотел догнать своего товарища, пока он еще не вошел на стадион». – «Меня не интересуют ваши объяснения». Она пошла рядом с ним, и все ее тело, как показалось ему, затрепетало, особенно волновали его ее косы и грудь. Совершенно бессознательно, даже инстинктивно, он нежно потянул ее за руку и сказал смущенно: «Не надо так».
«Отпустите меня», – ответила она уже не так сердито и не стараясь освободить свои пальцы из его руки.
«Подождите, по крайней мере, пока перестанет идти кровь», – улыбнулся он. – «А вы что, тоже собрались на матч?» – «Ну вот еще. Я иду к тетке».
«Давайте отойдем в сторону, – он направился к ближайшей липе и встал в ее тени, а она последовала за ним. – Надеюсь, вам сейчас лучше?»
«Все в порядке, – ответила она смущенно. – Идите же на стадион».
«Я не успел рассмотреть, какую книгу вы читаете».
«Разве это так важно? – улыбнулась она. – Я шла к тетке вернуть ей «Анну Каренину», – тут она посмотрела на часы. – Мне пора идти».
«Можно я вас провожу?»
«Как хотите», – она опять улыбнулась.
«На чьей вы стороне?» – он взял из ее рук книгу и перелистывал ее, пока они спускались вниз от стадиона.
«Как понять ваш вопрос?»
«Вы за Вронского или за Левина? Я это имел в виду».
«А вы что, преподаете литературу?» – спросила она с любопытством.
«К сожалению, нет. Боюсь, я вас разочарую».
«Почему?»
«Меня зовут Драголюб, – он остановился. – Драголюб Михайлович».
«Елица», – она протянула ему руку, и лицо ее вспыхнуло.
«Я люблю литературу, но моя профессия… я поручик, госпожа Елица».
«Поручик! – расхохоталась она и тут же смутилась из-за того, что потеряла контроль над собой. – Надо же, чтобы со мной так обошелся поручик, – добавила она с озорной улыбкой, убирая с губ носовой платок. – «Мой отец полковник».
«Полковник?!» – удивился он.
«Э-э, кажется, это я вас разочаровала», – на продолжала улыбаться.
«Только не говорите отцу, что это я вам разбил губу», – засмеялся теперь и он.
Сейчас, ночью, ему казалось, что он все еще сжимает ее влажные пальцы и видит перед собой белую блузку в красный горошек, видит, как вздымается под блузкой ее грудь. Он как будто рассматривал сейчас ее косы, слегка вздернутый нос, выгнутые дугой брови и одновременно с этим наблюдал, как они вдвоем прячутся от ливня под дубом в глубине парка Кошутняк.