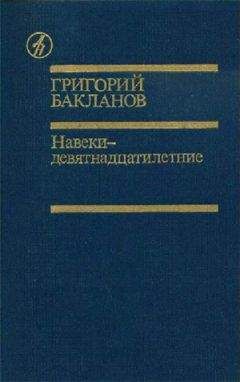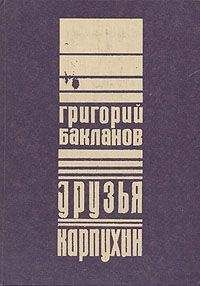Ознакомительная версия.
Я не могу приказать Рите, потому что у меня нет власти над ней, я говорю Бабину:
— Она с нами не пойдет. Скажи ей, комбат, пусть здесь остается. В конце концов, здесь раненые.
Рита живо повернулась на песке в мою сторону, белая от злости:
— Тебе что надо? «Скажи ей, комбат…» Ты что лезешь?
Бабин поднял на нее нахмуренное лицо — ничего не сказал. Ну и черт с вами! Встаю и иду в роту Маклецова. По крайней мере, не видеть все это.
Рота — человек сорок пять, — сжавшись, ждет под песчаным обрывом. Потом приползают еще восемь: раненые. В окровавленных бинтах, многие без гимнастерок. Один в разорванной тельняшке, прижав к животу забинтованную руку, раскачивается взад-вперед, словно ребенка укачивает. Рядом с ним пехотинец, вытянув длинные худые ноги в обмотках, щелкает затвором винтовки. Ближе ко мне — Саенко с автоматом на коленях, затяжка за затяжкой сосредоточенно досасывает мокрый окурок и поглядывает на него, словно боясь не успеть. Их трое моих здесь: Панченко, Саенко и радист. Коханюка видели в первый день на берегу, нес перед собой забинтованную руку, как пропуск. С ней и вошел в лодку. А эти двое — Панченко и Саенко — сами переплыли ко мне с той стороны, как только узнали, что отсюда никого не выпускают. Опасность лучше всякой проверки сортирует людей. И сразу видно, кто — кто.
Над нами появляется корректировщик, двухфюзеляжный «фокке-вульф».
— Прекращай шевеление! — кричат по плацдарму.
Гасят цигарки. Мы жмемся под откосом. Выгоревшие гимнастерки сливаются с песком. И вправо и влево по всей кайме берега, перестав рыть, сжались в песке люди. Ждем. Трудней всего ждать. Сейчас он начнет. У меня сразу пересыхает во рту.
Корректировщик все кружится. То одним крылом, то другим блеснет в белесом небе. Вдруг словно подземный толчок почувствовали мы. И сейчас же, заглушая хлопки выстрелов, в воздухе приближающийся вой и шипение. В последний раз оглядываюсь на берег, на котором лежу, и таким спасительным, надежным показался он мне в этот момент… В следующий момент мы уже вскакиваем.
— Впере-од!
Яростные лица. Разинутые рты. Рушатся первые разрывы. Дым. Пыль. Мельком вижу на обрыве слева овчарку. Крутится, заглядывает вниз. С автоматом на шее прыгаю на откос. Хватаюсь за корни. Лезу, лезу, держась за них. Корни обрываются. Падаю спиной вниз. Внизу Саенко бьет кого-то в дыму сапогами. Тот сжался на песке, не встает, только закрывает руками голову. Саенко срывает с плеча автомат. Дальнейшего я не вижу. Лезу на обвалившийся откос. Впереди карабкается пехотинец в обмотках. Один за другим возникают над краем откоса солдаты. И сейчас же исчезают за ним, согнувшиеся, с автоматами в руках. Взрыв! Сверху падает пехотинец в обмотках. Переворачивается через спину, чуть не сбивает меня. Винтовка его, воткнувшись штыком в песок, раскачивается упруго. И еще один пехотинец. Уже наверху. Вцепился побелевшей рукой в траву, лежит ничком. Я выскакиваю на откос.
Ви-и-и-у!..
Падаю. Нечем становится дышать. Чувствую его спиной, лопатками… Вот он! Закрываю ладонями голову.
Гах!..
Мимо! Вскакиваю.
— Вперед!
Из двух пехотинцев, лежавших рядом, встает один. Бежит шатаясь. Левей мелькнули за дымом Бабин и Рита. Не бегут, идут. За ними ползет собака, оставляя широкий кровавый след. Где Саенко? Панченко? Никого не вижу. Врываемся в лес. И вдруг — та-та-та-та-та!
Стою за деревом боком, вытянувшись. Пули низко стукаются о стволы. Оглядываюсь осторожно. Повсюду за деревьями, за кустами лежат пехотинцы. Мы вырвались из-под снарядов. Только не лежать, иначе уже не оторвешься от земли. Пулемет торопливо дожевывает ленту. Осекся.
— За мной-ой!
Какой-то солдат в распахнутой телогрейке бежит впереди меня, размахивает яростно автоматом, держа его за ствол, как дубину. Слева ударил пулемет и смолк внезапно. За деревьями мелькают немцы. Они бегут навстречу нам. Солдат исчезает. Из-за него выскакивает немец. Засученные рукава. Ощеренное, как будто улыбающееся, лицо. Стреляю. Саенко обгоняет меня. Еще чья-то широкая спина в тельняшке. В голой, с перевязанным локтем, загорелой руке — немецкий автомат. Лес кончился. Впереди меня, согнувшись, бежит немец. Никак не могу его догнать. Бегу, стреляю по нему и что-то кричу. Автомат дрожит в руках, как живой. Потом перестает дрожать, а я все жму на спусковой крючок. Внезапно немец оборачивается. Помертвевшее маленькое лицо. Подымает автомат. Страшно медленно. А я не могу остановиться, бегу на него, и все это как во сне, и ноги сразу становятся слабыми. Задохнувшись, вижу вспышку перед глазами, успеваю упасть. Когда подымаю голову, Саенко что-то делает с немцем, придерживая кубанку рукой.
— Нате!
Кидает мне запасной магазин к автомату. Сзади накатывается: «А-а-рра-рра!..» Разгоряченные лица, кричащие рты — все поле в бегущих людях. Ботинки, обмотки — пехота, набежав, обгоняет нас. Стоя на колене, перезаряжаю автомат. Потом бегу за ними и тоже что-то кричу, и оттого, что кричу, легче бежать. Окопы наши — позади. Чьи-то знакомые брезентовые сапоги мелькают, удаляясь. Под ногами каменистая осыпающаяся земля. Галька. Бежать становится тяжело. Это высоты. И вдруг — пусто. И я тоже лежу на земле. И только: та-та-та-та-та-та!..
И ветерок над спинами. И пули: чив! чив! цвик! Это бьет сверху. Из немецких окопов. Лбом, грудью вжимаюсь в землю. Нет ни укрытия, ни воронки — весь на виду.
Ж-ж-ж! — как жук, рикошетит надо мной расплющенная пуля. Рядом хрипит кто-то и стонет. Приоткрываю глаз. Нога в ботинке дергается впереди меня, скребет подковкой каменистую землю.
Я упал на правую руку. Пытаюсь незаметно достать под собой гранату на поясе. Надо кидать из-за спины, лежа. Ногти царапают ребристый бок. Ускользает. Каждый раз, когда надо мной проходит пулеметная очередь, сжимаюсь сильней. Нога впереди меня дергается реже. Тянусь, тянусь, зачем-то задерживаю дыхание. Пальцы потные, граната выскальзывает. Несколько мин беспорядочно разрывается по склону. Сейчас немцы придут в себя. И вдруг — крик. Дикий, страшный:
— Танки!
Мгновенно обессиленный этим криком, я слышу, как кто-то уже отползает. Сейчас вспыхнет паника. Люди хлынут вниз, а там — танки. И пулемет сверху. Это — истребление.
— Лежать! — хриплю я в землю.
Кто-то вскочил. Бежит вниз. Очередь! Я успеваю сорвать с пояса гранату. Взрыв! Это кинул кто-то раньше. Вскакиваем. По осыпающейся из-под ног гальке бежим вверх. Из дыма на меня — чье-то искаженное лицо. Ударяю гранатой. Глаза над бруствером. Огромный хрипящий Саенко валится на них. Прыгаю в траншею. Командир пешей разведки в дыму крутит немцу руки. Молча. У обоих бледные ожесточенные лица. Какой-то солдат возится над пулеметом.
— Давайте скорей!
Солдат подымает лицо — Панченко! Оттащив в сторону убитого пулеметчика, бежим с пулеметом по траншее. И только устанавливаем на другую сторону — немцы! Лезут вверх по склону, стреляют из автоматов, водя ими перед животом, падают, переползают, выскакивают из кустов. Пулемет дрожит у меня в руках. Белые вспышки пламени бьются перед глазами. Сквозь эти вспышки — мечущиеся фигурки немцев. Бегут. Пропадают. Бегут. Откуда-то через нас начинает бить артиллерия.
— Ленту! — кричу я.
Панченко исчез куда-то. Вместо него Саенко. Из-под кубанки на ухо по потной щеке течет кровь. Хочу крикнуть ему, но челюсти свело, не могу разжать. И тут же забываю о нем: опять лезут немцы, ползут по виноградникам отовсюду.
Разрыв!
Вжимаю голову в плечи.
Разрыв! Разрыв!
Это танки. Слышно, как они ревут. Кто-то, тяжело дыша, пробегает по траншее за спиной у меня, матерится, кричит:
— Гранаты!..
Надо снять пулемет. Свист. Вой. Грохот. Стремительно налетевший сверху гул обрушивается на голову, оглушает. Конец! И не могу оторваться от пулемета.
В тот же момент из-за голов наших, как снаряды, выскакивают штурмовики, ИЛ-2, и немцы катятся вниз по склону.
Потом я сижу без сил на дне траншеи на пулеметных, гильзах. Несколько бойцов сидят рядом. Дышат. Лица мокрые от пота. Правей ложатся разрывы. А где же танки?
Сверху сваливается Панченко. Почему-то босой. Хрипит пересохшим горлом:
— Пить!
На черном лице одни глаза. Кто-то дает фляжку. Пьет, задыхаясь, с остановившимися зрачками. Левая щека в пыли. Сквозь пыль сочится ссадина. Над головой у нас гудение самолетов и пулеметные очереди: др-р-р! др-р-р! Глухо за толщей воздуха. Почему Панченко босой? Я смотрю на него и что-то ничего не могу сообразить. Перед глазами туман. У меня, кажется, жар. Это малярия. И слышу плохо.
— Где танки?
Мой голос доходит до меня, как сквозь вату. Панченко отрывается от фляжки. Блестят мокрые зубы.
— Вот они, танки!
И указывает фляжкой назад. Позади нас, за высотой, подымается густой черный дым. Панченко смеется и опять пьет. Мне тоже хочется пить. Беру у него фляжку. Вода почему-то горькая.
Ознакомительная версия.