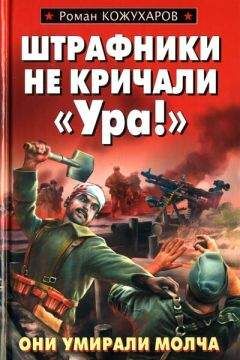Больше всего Аникина беспокоило самое начало форсирования. Пока они будут карабкаться в воду, немцы перебьют половину взвода. Уж очень они пристрелялись к этому берегу. А дальше – широкое русло реки, мост, и там тоже на каждом шагу их будет ждать вражеская пуля, вражеский осколок…
От этих тревожных мыслей становилось неуютно. Еще раз, обойдя периметр позиций и проверив выставленные посты, Аникин осмотрел добротно сколоченные плоты и плотики. Не спали в отделении Капустина и Латаного: доделывали свои плавсредства, обтесывали распиленные бревна, подгоняли и скручивали их проволокой. Кто-то дожевывал припрятанную на ночь краюху хлеба, вылавливая из банки остатки тушенки, кто-то возился с винтовкой или трофейным немецким пистолетом-пулеметом.
Перекинувшись с бойцами парой слов, Аникин прошел к костру, на котором Липатов готовил для них суп. Головешки почти догорели и теперь едва мерцали среди закоптелых кирпичей красными точками, удивительно напоминая мириады звезд, рассыпанных в ночи. Само небо было затянуто тучами, и никаких звезд и в помине не наблюдалось. Что-то будет завтра?
Вокруг костра вповалку, подостлав себе в качестве матрацев доски и прочий сгодившийся хлам, спали бойцы. Тут же, на видном месте, стояла прислоненная ребром к огрызку стены массивная прямоугольная крышка от стола. Небось, Липатов постарался, приготовил для него.
Андрей тут же, у стены, положил плашмя тяжелую крышку и, взгромоздившись на нее и подложив под голову вещмешок, попытался уснуть. Но сон упорно не шел. Мысли, картины воспоминаний неожиданно валом полезли в голову, и все больше мирные, не связанные с этой надоевшей до спинного мозга войной. Вспомнился вдруг поселок, картинами стали всплывать в памяти отец, мама, одноклассники…
Потом все-таки пересилили и потекли потоком уже военные воспоминания, но не окопы, не бои и смерть… Вспоминались женщины, которых довелось встретить ему на неисповедимых путях войны. Вспомнилась Акулина, спасшая ему жизнь в далеком сорок втором. Словно в прошлой жизни это было… А потом – штрафная, и снова смерть и кровь, смерть и кровь, без конца и без края… Вдруг зримо, отчетливо всплыла в памяти Лера, во всей своей прекрасной наготе, в своем безукоризненно белом халатике и накрахмаленной шапочке, которая так шла к ее милому, такому красивому лицу.
Ее образ, скорее подсознательно, Андрей всегда старался отгонять. Он знал, что вместе с воспоминаниями о ней обязательно придет мучительное чувство горькой потери и вины, с которой уже ничего, абсолютно ничего нельзя будет поделать.
Так случилось и на этот раз. Против воли явилась Аникину страшная картина ее обезображенного беззащитного тела посреди площади. Боль, саднящая, свежая, пронзила Андрею грудь где-то в районе сердца. Словно подкрался к его изголовью бесшумный вервольф[14], укутанный в маскировочный халат ночного покрова, и всадил прямо в грудь остро заточенное шило, выкованное из чистого льда, выпиленное из самой ледовитой толщи Северного полюса. И Андрей, пришпиленный этим беспощадным шилом к деревянной крышке стола, ворочался, тщетно пытаясь побороть навалившуюся на него душевную муку.
Губы Андрея беспомощно, призывно зашептали «Лера… Лера…», словно молитву, произносимую в миг крайнего отчаяния, как последний оплот спасения, когда все остальные соломинки уже безвозвратно утеряны. Комок подкатил к горлу и, будто надавив изнутри на какой-то заветный, потаенный мешочек, выдавил оттуда слезу. Оставляя горячий след, она скатилась через висок за шиворот телогрейки, и по этому следу словно утекла, растаяв, вся ледяная мука и боль, засевшая в сердце.
И Лерино лицо вдруг придвинулось к Андрею близко-близко, так, что он явственно ощутил ее дыхание, пахнущее земляникой, и глаза ее смотрели на него с такой любовью и заботой, что душа его сразу успокоилась. «Все будет хорошо, милый…» – произнесла вдруг она. Голос ее, воркующий, нежный, словно влился в его уши, разойдясь по телу теплой, волшебной истомой. «Все будет хорошо. Ведь я с тобой. Я все время с тобой…»
Андрей силился сказать что-то в ответ, тянулся к ее земляничным губам, но слова ее словно останавливали его, заставляя расслабиться и умиротворенно любоваться ее глазами, такими родными, такими лучистыми. «Все будет хорошо… Я с тобой…»
– Андреич! Андреич…
Образ Леры стал вдруг стремительно таять в облаке света, которое одновременно становилось молочно-белым.
– Андреич… подъем… – Совсем другой голос, мужской, грубый, негромко, но что-то требовал от Аникина. Вдобавок что-то настойчиво трясло его за предплечье.
С трудом разомкнув глаза, Аникин не сразу сообразил, что перед ним Липатов. Склоненное его лицо было будто сокрыто в облаке. Неужто он видит своего замкомвзвода во сне?
– Товарищ старший лейтенант! Пора подыматься!.. – еще настойчивее затараторил Липатов. – Тебя не добудишься, Андреич…
– Так я и не спал совсем… – вскакивая с излишней стремительностью, пробормотал Аникин.
– Ага, не спал… – с усмешкой проговорил Липатов. – Я уже с полчаса тут с плотом возился да слушал, какие ты рулады носом выводишь. Такого храпака давал, что я уж беспокоиться начал, что как бы немец нас по твоему храпу не засек, да не тиснул нам на зорьке пару горяченьких, 120-миллиметровых. Так сказать, для острастки и для оснастки…
– Храпел? – с искренним удивлением переспросил Аникин, обтирая ладонями лицо и ощущая жесткую щетину, образовавшуюся со времени вечернего бритья. Уже став взводным, Аникин завел себе за правило в любой обстановке – будь то на марше, в окопах, в обороне или наступлении – бриться дважды в день.
Напитанный сыростью воздух быстро приводил в чувство, как будто обдавал ладонями, набравшими холодной, ключевой воды. Все вокруг было погружено в непроглядно-молочную пелену тумана. Он был настолько непроглядным, что нельзя было разглядеть, что творится в десяти шагах.
Фигуры штрафников, сновавших среди развалин в суете немудреного утреннего солдатского быта, казались неясными силуэтами белесых призраков и приведений, которые, впрочем, негромко, но от души поругивались вполне по-земному.
В глубине разлитого повсюду молочного моря глухо гремела гроза артиллерийской канонады. Неожиданно грохот канонады усилился. Громовые раскаты нескончаемых выстрелов накатывали с северного берега Шпрее на противоположный, южный.
Как выяснилось позднее, это дивизионные артиллерийские расчеты, расположившиеся в районе железнодорожного вокзала Лертер, предприняли огневой налет на минометные батареи, которые фашисты сумели развернуть неподалеку от моста Мольтке.
Вражеские расчеты двух батарей 120-миллиметровых минометов закрепились под стенами Кроль-оперы в результате вечерней контратаки. Не дожидаясь зари, они начали обстрел внакладку по заранее намеченным целям, среди которых значились подступы к мосту на северном берегу и позиции полковых орудийных расчетов, которые должны были прикрывать продвижение стрелковых батальонов через мост.
Эти огневые позиции – баррикады и артиллерийские окопы, вырытые на подступах к мосту в полный профиль, были на совесть обустроены прежними хозяевами – фашистами, однако это не помешало советским солдатам выбить врага с этих насиженных мест и заставить спасаться бегством на южный берег под прикрытие многотысячной, до зубов вооруженной группировки, защищавшей «дом Гиммлера», Кениг-плац и Рейхстаг.
По улице Альт-Моабит, прямиком выводившей к Шпрее, на мост через реку, в помощь штурмовым отрядам двигались экипажи самоходных артиллерийских установок. Получив уточненные после ночного боя координаты вражеских целей на южном берегу, экипажи самоходок тут же начали обстрел фашистских огневых точек на Кениг-плац.
Огневым налетом орудий «СУ-122» и артиллерийских батарей, развернутых на стыке улицы Альт-Моабит и набережной, накрыло гитлеровских пехотинцев и боевую технику, скопившуюся на противоположной стороне, в районе улицы Ин-дель-Цельтен, которая отделяла южный берег Шпрее от здания Королевской оперы и уводила вправо, к «Тиргартену».
Фольксштурмовцы и эсэсовские подразделения, брошенные ночью в контрнаступление при поддержке самоходных установок «фердинанд», минометного и артиллерийского огня, были лишь частью значительных резервов, которые еще ждали своего часа.
Наступавшие советские войска еще ничего не знали о живой силе и боевой технике, сконцентрированных фашистами в районе Бранденбургских ворот и парка «Тиргартен» и пока не введенных в бой.
Истошный ослиный рев – как будто одновременно резали целое, в несколько сотен голов, стадо напуганных животных – означал интенсивную стрельбу фашистских «ишаков». Не успев начаться, этот рев захлебнулся уже спустя пару минут. Позиции минометчиков оперативно накрыли первые залпы дивизиона тяжелой гаубичной артиллерии, батареи гвардейских минометов.