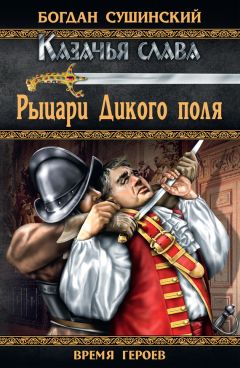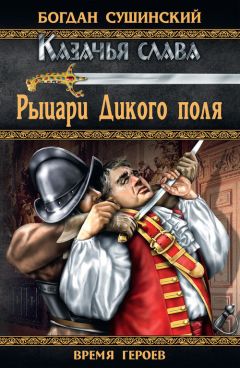– Тебя называют «Шкипером». Почему?
– А кем должны называть моряка, шесть лет прослужившего шкипером на испанском флоте? Сначала на фрегате «Палладин», затем на бриге «Альмансор». Потом рыбачил…
– Не будь ты лягушатником-французом, я бы даже выпил с тобой лишний кубок вина. Службу я начинал как раз на фрегате «Палладин». Правда, пробыл на нем всего год, до ранения в бою с английскими пиратами под Ла-Коруньей, но… рваный ты башмак повешенного на рее!.. – потряс он поднятой вверх рукой, высказывая восторг от столь неожиданной встречи с членом экипажа «Палладина».
Шкипер решил, что на этой ноте сдержанного полупиратского восторга их встреча с капитаном и завершится. Однако он все же слишком плохо знал командора Морано.
– В конечном итоге мне наплевать: четыре у них орудия или все четырнадцать. Все равно этот чертов гадюшник, именуемый вами Сен-Бернардином в издевку над всеми святыми, я разнесу на мелкие колоды. А получив еще два брига в подкрепление, буду держать французов в страхе на всем побережье от Остенде до мыса Сен-Матье. Но если обнаружится, что вы оба подосланы и песочите мне мозги, то от вас на этой земле не останется даже рваных башмаков, не будь я командором Морано.
Оставшись один, дон Морано еще несколько минут размышлял, стоя у окна и глядя на открывавшуюся из него каменистую косу, рассекавшую на две почти равные части свинцово-синюю рябь моря. Какие бы бравады относительно своей лихости он в присутствии Шкипера ни выдавал, форт Сен-Бернардин оставался тем несозревшим орехом, ломать зубы о который еще было рановато. Ему нельзя терять корабли, потому что ни одного нового судна – дон Морано знал это точно – король ему не доверит.
Почти три года Морано пиратствовал у берегов Малых Антильских островов. И лишь очень удачное, своевременное возвращение в лоно испанской короны, да помощь, которую он оказал испанской эскадре, шедшей с грузом серебра и золота, во время нападения на нее французских кораблей, спасли командора от суда, после которого никому не понадобился бы не только он сам, но и его рваный башмак.
Словом, адмирал эскадры вступился за него в Эскуриале [18] и даже посоветовал королю использовать пиратский талант дона Морано – дворянское звание и родовые титулы бывшему пирату были возвращены – у северных берегов Франции, терзая ее порты и укрепления.
Вот уже третий месяц он рейдирует у берегов, сначала Бретани, а теперь Фландрии. За это время ни один его корабль не получил даже серьезного повреждения. А потери были в основном среди солдат десантных рот прибрежных корсаров. Из экипажей погибли только четверо, что не может быть не отнесено адмиралом и Его Величеством на счет его мореходного таланта.
Захватив Сен-Бернардин, он тем самым не только разгромит крупный гарнизон, но и заставит французов отвести от Дюнкерка как минимум полк, который понадобится им, чтобы попытаться вернуть форт. В то же время командующий испанскими войсками будет просить короля прислать солдат для гарнизона Сен-Бернардина, захваченного командором Морано. А это уже известность при дворе, уже слава.
Если то, что ему поведали казак и Шкипер, правда, успех вылазки обеспечен. Командор рассуждал так: если бы казак действительно был подослан, вряд ли он стал бы терпеть подобные муки. Зачем скрывать то, чего скрывать не должен? К тому же француз оказался вместе с ним случайно. И назвал он меньшее число орудий, чем украинец. А ведь, если бы казак пытался ввести его в заблуждение, все было бы наоборот, он заявил бы, что в форте остаются четыре орудия или даже три. К тому же расхождение в количестве подтверждает, что они не сговорились.
«Решайся, решайся, командор, – повелел себе дон Морано. – В В?ест-Индии ты нападал на форты, имея всего лишь один полузатопленный пиратский корабль. Когда за твоей спиной не было ни флота, ни армии Его Величества, никого и ничего, кроме удачи и твоего изодранного Роджера. Победишь – и не исключено, что король выполнит обещание: назначит адмиралом флота, действующего у берегов Фландрии. Упустишь свой шанс, цена тебе – порванный башмак повешенного на рее».
Из деревни Шевалье уезжал в карете, подобранной драгунами в лесу, где ее бросили гайдуки. Кому она принадлежала ранее и как попала к повстанцам – это уже никого не интересовало.
– У вас есть возможность вернуться в Варшаву в собственной карете, – облагодетельствовал странствующего летописца полковник Голембский. – Этот военный трофей я дарю вам. У вас была когда-нибудь собственная карета, господин Шевалье?
– Никогда, – равнодушно признался француз. – И даже не верится, что когда-нибудь может появиться.
– Пусть отныне верится. Она ваша. С парой лошадей и Пьёнтеком-кучером в придачу. На улицах Парижа она, возможно, и не станет блистать рядом с каретами аристократов из рода Конде, д’Анжу и прочих… Тем не менее…
– Я воспою вас, полковник, как самого великого благодетеля нашего века на всем пространстве от Пиренейских гор до азийских степей.
– Слава всегда была достойной платой за добродетели любого из нас.
Шевалье произнес это почти искренне. Он уже был немолод, и у него не так много водилось денег, чтобы постоянно нанимать карету.
– Если уцелею в этой войне непонятно с кем и за что, вам придется принимать меня в Париже как гостя. Так что подумайте, прежде чем соглашаться на этот подарок.
– Не поверите – решусь, – рассмеялся Шевалье.
Полуразгромленный, полусожженный повозочный лагерь возле усадьбы подстаросты Зульского майор Шевалье оставлял последним. Именно вслед его карете с завистью смотрели драгуны полуэскадрона, во главе с хорунжим, которых полковник оставил для охраны усадьбы от повстанческих шаек, бродивших по окрестным лесам. А все казалось, что это глядят печальные колдовские глаза Подольской Фурии.
В городок они прибыли поздним вечером. Квартирмейстер полка помог Шевалье поселиться в довольно просторном доме аптекаря. В окрестностях городка тоже было неспокойно, уже не раз сюда наведывались небольшие отряды повстанцев, поэтому аптекарь охотно принимал на постой любого появлявшегося в городке офицера. Тем более что вместе с Шевалье поселились Пьёнтек и двое солдат охраны.
Слегка перекусив и неохотно ответив на два-три вопроса пятидесятилетнего аптекаря – располневшего, с копной пепельных, щедро посыпанных перхотью, волос подольского еврея, который о самых элементарных вещах говорил с таким хитрым прищуром глаз, словно вершил гешефт на тысячу злотых, – странствующий летописец закрылся у себя в комнате и до рассвета пролежал прямо в мундире, глядя в черный квадрат окна.
Это была ночь видений. Ему чудились то старая груша с телами повешенных, то пылающая хата Подольской Фурии, то лавина повстанческой конницы, разбивающаяся о повозочный лагерь поляков.
Однако что бы ни представало перед его внутренним взором, он воспринимал это, как бы глядя в огромные, несказанно печальные глаза Христины. Каждый раз, когда они возникали перед ним, Шевалье казалось, что он вот-вот услышит голос женщины. Ее бархатный, негромкий, вкрадчивый голос пророчицы.
Но она молчала.
Зато, как только на черном квадрате окна прорезался первый луч рассвета, странствующий летописец вдруг услышал собственный голос, отчетливый, твердый и жестокий в своей непреклонной правоте:
«Оставив женщину, которую ты любишь, одну на пепелище, ты совершил то, чего уже никогда в жизни не сможешь простить себе и после чего никогда не будешь чувствовать себя ни аристократом, ни рыцарем. Ты мог предать в этом мире кого угодно, ибо не ты первый предаешь в нем; ты мог пройтись по нему клинком своей сабли – мало ли знала эта земля чужеземных клинков; ты мог поджечь всю эту деревню – кто только ни жег города и деревушки на страждущей украинской земле. Но единственное, чего не мог, не имел права позволить себе – так это оставить на произвол судьбы женщину, подарившую тебе убийственную ночь спасения; женщину, которая навечно останется для тебя последней женщиной, в которую ты был по-настоящему влюблен».
Услышав этот голос своей далеко не ангельской совести, Шевалье решительно обулся, поднял безмятежно содрогавшего своим храпом весь флигель для прислуги Пьёнтека и приказал заложить карету.
– Куда вы, господин майор? – появилась на крыльце жена аптекаря, черноволосая двадцатисемилетняя (аптекарь Соломон сообщил об этом с нескрываемой гордостью) аптекарша. Отец ее был цыганом, мать еврейкой. Из этого фантасмагорического кровосмешения получилось довольно милое, хотя, судя по всему, своенравное создание, которое вчера не только вежливо хлопотало у его ночного стола, но и пыталось откровенно флиртовать. – Вы считаете, что дом аптекаря Соломона можно оставить на рассвете, не отведав того, чего бог Яхве послал щедрому подольскому еврею? Так что же тогда будут думать о хозяйке дома все остальные мужчины Бершади?