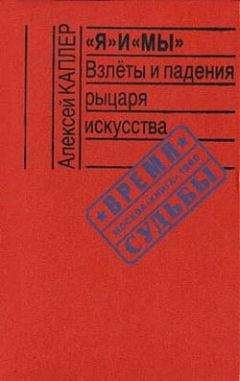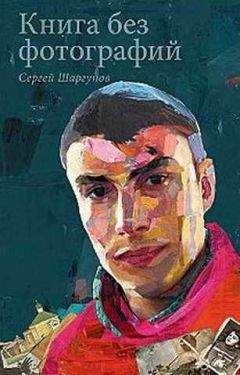— Я не могу, товарищ капитан, — еле поворачивая в пересохшем рту тяжелый язык, проговорил Земляченко.
— Сможешь!.. Сможешь, Андрей! Найдешь в себе силы, чтобы честно и справедливо…
— За что мне такое наказание?
Смоляров поднял взгляд на его усталое, осунувшееся за одни сутки лицо.
— Я, например, думаю, что это не наказание… Твой долг…
Андрей пристально посмотрел на капитана.
— Да не смотри ты на меня, как на богородицу! Белоусов болен. И ты должен выяснить все обстоятельства, при которых случилось чрезвычайное происшествие… А это очень важно. Надо, например, точно установить, на какой высоте шел «боинг», каким курсом, какие были метеорологические условия, почему самолет не распознали: или потому, что наблюдатель плохо знал силуэты, невнимательно нес службу, или, может, по каким-то другим причинам…
— И принесли черти этого «боинга»! — с сердцем воскликнул Андрей.
— Если бы черти, было бы легче. Было бы на кого сослаться. А так… — Смоляров тяжело вздохнул. — Трагическое событие.
— Неужели ее осудят?
— Проведешь дознание, первый будешь знать, как это случилось и какие выводы надо сделать, — уклонился от ответа замполит. — Не каждый день сбиваем союзные самолеты…
Смятенный взгляд Андрея натолкнулся на знакомый плакат, который висел, как и раньше, за спиной капитана: солдаты шли в атаку, висли на проволочных заграждениях, а один из них пробился вперед и умирал, закрыв своим телом вражеский пулемет. В новом помещении капитан еще не успел оборудовать свой кабинет, но этот плакат уже украшал комнату.
— И когда… начинать?..
— Дознание? Не откладывая… — Смоляров посмотрел на часы, будто хотел запомнить, когда состоялся разговор. — Держи себя, как полагается мужчине, офицеру. — Он поднялся, обошел стол и положил руку на плечо Андрея. — Дознание надо делать не только с головой, но и с душой… С душой! Думаю, тебе этого ни у кого занимать не придется…
— Товарищ капитан! Я убежден, что она не хотела…
— Этого еще не хватало, чтобы хотела!.. На факт, как говорят, остается фактом: самолет сбит.
— Куда же смотрели зенитчики?
— Это уже их дело. И за это им отвечать. А нам надо ответить за свое. Не зря о нас, вносовцах, говорят, что мы глаза и уши противовоздушной обороны…
Лейтенант грустно уставился в пол.
— Не горюй, Андрей, — дружески сказал Смоляров. — Еще не все потеряно. Чем обстоятельнее будут наши данные, тем больше шансов… — Земляченко поднял глаза, с надеждой посмотрел на капитана, — что мы будем знать правду. Понимаешь, всю правду!.. — Смоляров подошел к стене, на которой висела обыкновенная географическая карта Румынии, приблизительно отыскал место поста Давыдовой и обвел его карандашом. — Кстати, когда наши войска приближались к Плоешти, американская авиация ожесточенно бомбила нефтепромыслы, хотя никакой военной необходимости в этом уже не было… Вот это меня удивляет…
* * *
Земляченко зашел в солдатскую столовую, когда завтрак заканчивался. Девушки из взвода управления допивали чай и, дожидаясь команды Аксенова, который завтракал за столом для младших командиров, тихонько переговаривались.
— Интересно, кто поедет к Давыдовой, — услышал Андрей приглушенный шепот.
— Кому прикажут! — откликнулась Незвидская.
— Вот Манюня просилась на пост…
— Лопнули, значит, надежды на жениха? — засмеялся кто-то из девушек.
— А кто же тогда командиру подворотнички будет пришивать? — с невинным видом спрашивала Койнаш.
— Лучше уж воротнички пришивать, чем людей губить, — оскорбилась Горицвет.
— Что же, по-твоему, Зина нарочно напутала?
— Это не имеет значения — нарочно или ненарочно.
Вспыхивает спор. Девушки забывают, что они в столовой, не замечают лейтенанта, говорят уже не шепотом, а в полный голос.
— По-твоему, все равно, нарочно сбить или ошибиться? — нападает на Марию Татьяна Койнаш.
Та в ответ пожимает плечами.
— Суд принимает во внимание лишь факты, — вмешивается Незвидская, — общественную опасность проступка. А нарочно он сделан или вследствие небрежности — это может повлиять только на степень наказания.
Все знают, что Незвидская до войны работала секретарем в суде, и прислушиваются к ее словам.
— Если доказано, что проступок не является опасным для общества, — грустно продолжает подруга Зины, — тогда могут не наказывать…
— Вот было бы здорово!
— …Если бы не сбили самолет! — спокойно уточняет Мария.
Койнаш чуть не набрасывается на нее с кулаками, но в это мгновение гремит голос Аксенова:
— Заканчивай! Выходи строиться!..
В небольшой комнатке, временно заменявшей гауптвахту, было одно-единственное окошко; сквозь его железную решетку был виден клочок неба, того самого неба, которое пришли охранять в этот далекий край советские девушки. Кроме непокрытого дощатого топчана, другой мебели здесь не было. На голых стенах грязновато-серого оттенка нет ничего, за что можно зацепиться взгляду.
Ночь Зина не спала. Да и какая это ночь — разорванная пополам, будто рассеченная молнией. Зина так и просидела всю ночь на досках, накинув на плечи шинельку. За окошком почти до утра лил дождь, точно стремился залить, смыть все, что было до сих пор, не оставить и следа от прошлого, чтобы после этого жизнь началась заново. А что могло начаться, когда все, кажется, закончилось этой ночью?
«Вот и возвратилась в штаб!» — горько подумала Зина. Разве так рисовалась в мечте ее встреча со старыми подругами, с Андреем?!
Виделось ей, что приедет сюда солнечным днем. Девушки радостно выбегут навстречу. Целых два года стояла она с ними на страже неба. Есть о чем поговорить, что вспомнить. Потом она увидится с ним. Посмотрит в его ясные глаза, увидит, что́ в тех глазах — не погасли ли в них светлые лучики, которые не раз светили ей в бессонные ночи на посту?
И зачем только дано человеку мечтать!
В комнатке было сумрачно, полутемно, возможно, потому, что небо еще не освободилось от разбросанных туч. Тело Зины занемело от сидения, и она поднялась, подошла к окошку. Не успела прислониться головой к железной решетке, как часовой со двора крикнул на нее и взмахнул рукой. Зина поняла: надо отойти. Покорилась, опять опустилась на топчан.
Вскоре приоткрылась дверь. Вошла девушка-солдат из кухонного наряда. Осторожно несла алюминиевую миску и кружку с чаем. Поискала глазами вокруг и поставила завтрак на топчан.
— Ложки у тебя нет? — обратилась к Зине. — Как же ты будешь есть? Вот не додумалась взять… А где твои вещи?
— Не разговаривать! — вмешался начальник караула, который зашел следом.
— А чем ей есть?
— Принеси!
Девушка бросилась в дверь. Через минуту она возвратилась. По лицу, по быстрому взгляду любопытных глаз было видно, что ей очень хочется поговорить с Зиной, но начальник караула оставался неумолим. Он пропустил девушку вперед и вышел следом, плотно прикрыв дверь. Ключ дважды повернулся в замочной скважине, и опять стало тихо.
Зина не ела со вчерашнего дня. Еда приятно пахла. Дымилась паром картошка, будто напоминала, что может остынуть. Но Чайка даже не посмотрела на нее.
В комнате светлело. Ветер неутомимо разгонял тучи. Они уплывали на край неба и таяли, точно льдинки весной. За маленьким зарешеченным окошком словно ширились с каждой минутой горизонты.
Впервые Зина увидела мир из окошечка отцовской хаты над Ворсклой. Подросла — бегала к плетню и зачарованно смотрела на просторные дали: под горой куда-то бежала, извиваясь синей лентой, полноводная Ворскла, слева — овражки, серебристая осиновая роща, справа сверкают на солнце белые хаты, а впереди — сколько простора, если поглядеть за речку: зеленые луга, за ними леса и леса — далеко бежит взгляд, до самого края земли!
Стала старше — бегала на речку купаться, стирать белье с матерью, пасла коз на кручах — и далекий мир становился все ближе. Потом узнала, что не край земли ей из дому виден, что за горизонтом есть еще села, еще люди, а за селами — большой город Полтава. Сколько было тех ясных дней, когда узнавала свой родной край: вначале с отцовского подворья, на вольных лугах, затем в школе, — и чем больше взрослела, тем сильнее любила его!
Вспомнит родной край — и слышит соловья, поющего над хатой, видит уставшую мать, которой стоило, бывало, притронуться, погладить по головке — и становилось радостно, куда-то исчезали все детские горести и обиды. Подумает о родине — и сразу вспоминается и школа с уроками, и пионерский отряд, и первый нечаянный поцелуй, после которого убежала как сумасшедшая, топча высокие травы, прячась за белые шумящие осины…
С плоской крыши волжского элеватора, когда «юнкерсы» волнами налетали на город, она видела не только широкие степи.