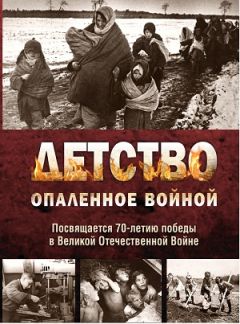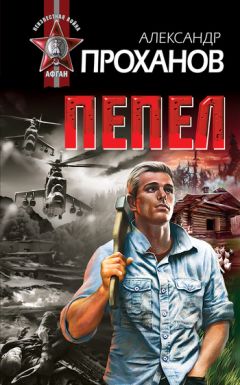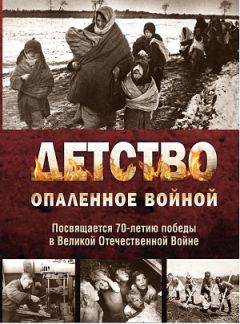— Я на германском фронте не был, молодой еще. А к японской войне созрел. Вошли мы в Маньчжурию. А известно, дело молодое, девку подавай. Вот завел я одну китайку в сарай и делаю ей знак, дескать, заголяйся. Она понятливая, платье задрала. Только я наладился, старшина заходит: «Полунин, командир зовет». Он ушел, а я опять прицелился. Только свой пистолет к ней приставил, лейтенант заглядывает: «Полунин, куда провалился? Капитан зовет». Опять перебой. В третий раз приладился, ну, думаю, все получится, а тут сам капитан: «Полунин, давай в машину». Так я ту китайку ни с чем отпустил. Где-то небось сейчас живет, подругам рассказывает, что был, мол, такой дурак, русский солдатик.
Он ухмылялся, позволяя Суздальцеву насладиться зрелищем полутемного сарая и китаянкой, задравшей подол.
Они выбрали на опушке несколько берез, белоствольных, высоких и ровных. Полунин отоптал дерево, проминая снег до сухой травы. Запустил пилу, звенящую, пыхающую дымом, с жужжащей острозубой цепью. Примерился и, коснувшись ствола, взрезал его до половины, рассыпая жирные опилки. Извлек пилу из надреза. Перенес ее на другую сторону ствола и сделал второй надрез, чуть выше первого. Топором вырубил в березе глубокий надкол. Навалился телом на ствол, и береза стала клониться, трещать, рухнула, хлестнув по снегу вершиной.
— Давай ты кряжуй, — передал он пилу Суздальцеву. Тот запустил инструмент, чувствуя, как заиграла, забилась в его руках пила. Приблизил к стволу. Уперся в бересту стальным зубом и коснулся режущей цепью березы. Пила вырывалась, застревала, Полунин перехватывал, учил, показывал, как передвигать стальной зуб, плавно нажимать на рукоять. Суздальцев волновался, ошибался, овладевая еще одним лесным мужицким навыком, благодарный Полунину за науку. Они свалили еще несколько берез, разрезали на белые крепкие чураки, сложили в поленницы. Сучья и зыбкие вершины собрали в кучу и подожгли. Теперь оставалось подогнать трактор, погрузить на тележку дрова и отвезти к тете Поле.
— Пойдем, че тебе покажу, — сказал Полунин, забрасывая на спину пилу.
— Что покажешь?
— То и покажу, что другой не видел, — и засеменил лыжами, направляясь в глубь леса.
Прошли сквозь серебряное сияние березняка. Продрались сквозь частый колючий ельник. Прошелестели сухими камышами на замерзшем лесном болоте. Оказались в чаще, где осины тянули в небо бирюзовые стволы, и черные корявые дубы расталкивали кронами соседние сосны и ели.
— Вот, гляди, — произнес Полунин таинственно и вдохновенно, будто приготовил Суздальцеву сокровенное диво. Диво и впрямь присутствовало.
В снегу, выступая черным железом, виднелся остов легкового автомобиля. Без колес, без фар, без внутреннего убранства, без крыши. Только черные железные рамы, контуры кузова, зияющая, предназначенная для двигателя дыра. И сквозь все эти пустоты и полости росли деревья — две стройные сосны, несколько берез, гибкие, с наклоненными ветвями орешники. Казалось, автомобиль упал с неба, его прокололи деревья, и теперь он напоминал жука, насаженного на иглу.
— Откуда? — изумился Суздальцев, ощупывая черную, изъеденную ржавчиной сталь.
— «Опель» немецкий. Тут раньше была лесная дорога. Драпал от наших и застрял. А потом зарос. Я помню, у него еще баранка была и кожа на креслах. Что ребятишки растащили, а что само сгнило.
Суздальцев смотрел на остатки немецкой машины, которую принесло вместе с великим нашествием в русскую глухомань. Нашествие ударилось об эти мерзлые леса, сирые деревни, серое, сеющее снег небо — и покатилось обратно. Штабная машина застряла в лесной колее, чтобы остаться в русском лесу навеки. И эта мысль волновала Суздальцева, будто ему приоткрылась тайна, — как исчезают бесследно цивилизации, зарастают лесами дворцы и храмы, и если углубиться в этот заснеженный лес, то могут открыться взору статуи древних богов, столицы исчезнувших царств.
— Тут много чего есть. Лес тайну держит, — произнес Полунин, и его простецкое, деревенское лицо стало задумчивым, глубокомысленным и таинственным. Словно он, деревенский лесник, был хранителем этих тайн, обходил дозором заросшие лесом храмы, читал на каменных плитах письмена исчезнувших наречий.
— Ну ладно, теперь ты видел. Я к себе в Мартюшино, а ты прямиком через лес, к дороге. — И трусцой заскользил, покуривая цигарку, оставляя запах дымка.
Суздальцев пошел напрямик, изумляясь преображению лесника. Болтливый, часто хмельной балагур был таинственным жрецом, охраняющим капище безмолвных лесных богов. Зимний лес жил дремотной сокровенной жизнью, храня в древесных кольцах память минувших времен, энергию небесных лучей, соки земных глубин, соединяя небо и землю. Былое и будущее. И эти высокие с красными стволами сосны были молчаливые боги, которые окружили его своим священным молчанием.
Он вдруг испытал благоговение к деревьям, ощутил их божественную сущность, был готов поклоняться им.
Подошел к высокой прямой сосне с золотым стволом и зелено-седой вершиной. Обнял ее, прижался щекой к коре. Она была теплой, живой, в ней дышала смола, притаились кольца древесного солнца. Сосна обладала душой, памятью, молчаливым разумом, в котором присутствовала мысль о нем, Суздальцеве, знание о его судьбе. Сосна была божеством, окруженным другими божествами; лес был местом обитания молчаливых богов.
Петр двинулся дальше, дорожа этим явившимся ему откровением, благоговея перед лесом. Над ним пролетела стайка клестов, серо-розовых, пушистых. Опустились на елку, стали обклевывать шишки, перевертываясь вниз головами, проникая чуткими клювами в глубину шишек. И это были боги, в их легком посвистывании присутствовало божественное знание о нем, Суздальцеве, и они обменивались между собой этим знанием, и он старался разгадать их птичий язык.
С высокой еловой лапы сорвался ком снега, упал, ударяясь о нижние ветки. В воздухе от его паденья возникла трепещущая солнечная пыльца, которая переливалась, дрожала, несла в своих крохотных бесчисленных спектрах знанье о нем, Суздальцеве. О его избранности, неповторимости, о его причастности к лесным богам. И это снежное, пропадающее мерцанье было мерцаньем бога.
Он шел через лес, обожествляя вершины берез, в которых сквозила лазурь, и огненные пятна солнца на смоляных стволах, и далекий стук дятла. И вдруг на поляне, среди чересполосицы синих теней и янтарных просветов навстречу ему выскочила лисица, рыжая, с белой грудью, тяжелым опущенным к снегу хвостом. Смотрела на него без страха своей заостренным улыбающимся лицом, мягко скакнула и умчалась в лесной прогал, оставив на снегу рыхлый след, отпечатки хвоста. Он ликовал, лес посылал ему навстречу своих богов, принимал к себе, делал богом.
Он вышел на дорогу. Накатанная, белая, она блестела среди елей, на которых густо, освещенные солнцем, краснели шишки. Снял лыжи, положил на плечо и шагал по дороге молодым упругим шагом. И казалось, эта дорога не имеет ни конца, ни начала, и его жизненное странствие бесконечно. Тысячу лет он будет молодо и сильно шагать среди морозных любимых елей.
Его нагнал грузовик, сначала пролетел мимо, а потом затормозил. Шофер ждал, когда он подбежит.
Суздальцев перебросил в пустой кузов лыжи, легко перемахнул через борт. Грузовик тронулся. Петр стоял в рост, держась за кабину, и навстречу ему летели острые вершины елей, и в них, как лампады, красной смолой шишки. Он вдруг подумал, что ему не нужны людские дружбы, любови, не нужна мудрость мира, запечатленная в книгах. Он навсегда останется в этих лесах, или, быть может, пострижется в монахи, сменит имя и навек исчезнет среди тихих молитв и алых лампад.
«Господи! — думал он в восхищении. — Я оставлю этот мир и стану служить только Тебе одному, преисполнен любви и веры!
Впереди налетала на него огромная ель, усыпанная малиновыми гроздьями. Сейчас она поравняется с ним, и он даст Господу обет в своем вечном служении.
Пространство между ним и елью стремительно уменьшалось, в душе его были готовы сомкнуться два огненных лепестка. И когда елка нависла над ним смоляными красными шишками, он отшатнулся, не дал сомкнуться лепесткам. С чувством вины подумал: «Господи, приду к тебе непременно. Но дай мне еще пожить на свободе, насладиться любовью и творчеством. А потом я к тебе непременно приду!»
Ель улетала, и в душе оставалось чувство неясной вины, едва ощутимая боль.
Грузовик остановился у магазина в Красавине. Суздальцев слез, стал рыться в карманах, в поисках денег. Нашел монету, протянул шоферу.
— Ну ты, брось дурить, — ответил шофер, вылезая их кабины. Худой, сутулый, с небритым кадыком, в промасленной телогрейке. Это был Семен, муж злополучной Клавдии, которая разносила по деревне слухи об их семейных драках. Семен затравленно оглянулся по сторонам и пошел в магазин, где блестели бутылки водки. Суздальцев видел, как скользят, разъезжаются его кирзовые сапоги…