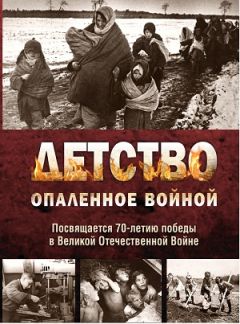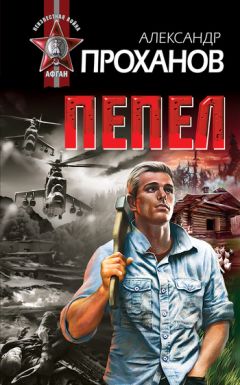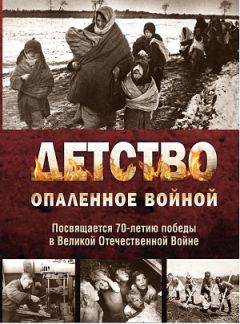Над долиной возникли две стрекочущие вертолетные пары. Приближались к кишлаку, перестраиваясь, поворачивая к солнцу то одну, то другую плоскость, стеклянно искрясь винтами. Первая пара нахохлилась, замерла на мгновенье, а затем, опрокинув носы, помчалась к земле. Промерцала огнями, швырнула заостренные всплески, черные дымные клювы. В кишлаке рвануло, словно вскипели стены и башни, и там, где пролегали ровные улицы, теперь дымились рваные прогалы. Один из белых куполов был проломлен, и казался яйцом, из которого вылупился черный птенец. Вертолеты кружили над кишлаком, меняясь местами в небо, и там, где они только что были, висели кудрявые перья копоти, а на земле рвались и дрожали огни. Автобус горел; было видно, как рыжее пламя охватывает его разукрашенные бока.
Начальник разведки с омертвелым, равнодушным сердцем наблюдал истребление Мусакалы. Еще один город среди миллиардов других городов и селений, уничтожаемых во все века на земле, превращался в прах. И начальник разведки думал, что превращается в прах его жизнь, совпавшая с истреблением Мусакалы, как превратилась в прах жизнь безвестных полководцев и воинов, штурмовавших крепостные стены, стиравших с лица земли столицы и царства.
Работали «ураганы». Гудя и воя, вылетали из труб реактивные снаряды, прорубали в воздухе пылающие туннели, гнали сквозь них в кишлак шары огня. Установки залпового огня, как огромные циркулярные пилы, с воем резали небо, достигали своими отточенными зубьями кишлака, вырывали из него ломти. Рявкали гаубицы, не было видно ни куполов, ни глиняных башен, ни горящего автобуса, только вставали рядами аллеи черных взрывов, и там, где был кишлак, пузырилась и пучилась вздыбленная взрывами земля.
Гул летел над долиной, офицерские голоса напоминали клекот. Комдив смотрел на часы. Обстрел прекратился, и стало так тихо, что ему казалось, он слышит тиканье командирских часов. Из дымного кратера, где еще недавно поднимался кишлак, сочилась горчичная ядовитая гарь.
Начальник разведки видел, как двинулась сквозь виноградники толпа «партизан», торопясь в кишлак, чтобы забрать все, что осталось от ковров, одеял, домашней утвари, нарядных, с мусульманской вязью арабесок.
Начальник разведки покинул окоп, сел в броневик и покатил в холмах, проверяя блокпосты. Командиры боевых машин докладывали обстановку, противник не подавал признаков жизни, не пытался прорвать оцепление. Начальник разведки увидел, как мимо бежит собака, прихрамывая, поджимая перебитую лапу. Проскакала мимо, не глядя на людей, высунув красный язык. Следом появилась другая, с обожженным, окровавленным боком, приседала, лизала рану, принималась снова бежать. Проковыляла большая пыльная собака. Часть шерсти на боку была срезана, и белела голая кость. Начальник разведки смотрел, как мимо броневика, не замечая его, бежали раненые и обожженные собаки…
И как же Петр был изумлен и обрадован, как счастливо дрогнуло сердце, когда простучали, проскрипели шаги на крыльце, отворилась тяжелая дверь, и в избу, переступая высокий порог, вошли мама и бабушка! Мама, стройная, высокая, с красиво и гордо посаженной головой, в своей очаровательной каракулевой шубке и лисьей рыжей шапочке, и бабушка, маленькая, подвижная, в старомодном пальто и в бархатной шапке с узорной костяной брошью, которую она когда-то купила в Париже. Они вошли одна за другой в избу, и мама от порога, остро, жадно, ревниво сразу же осмотрела его с ног до головы, порываясь к нему, но удерживая свой порыв. Не давала волю своему смятению — и чувству из боли, радости и неисчезнувшего огорчения. Зато бабушка, не раздеваясь, кинулась к нему, целовала холодными губами в лоб, приговаривая:
— Петенька, мальчик мой! — Ее карие глаза светились обожанием, беспредельной любовью. И он целовал ее седые волосы, ловил в свои горячие ладони ее маленькие сухие руки.
— Тетя Поля, это же мои мама и бабушка! — знакомил их Суздальцев. Тетя Поля смущалась своих домашних валенок, грубых, в мозолях и ссадинах рук, бедного убранства избы. Чувствовала превосходство двух явившихся из города женщин, решивших проверить, в каких условиях содержит она своего молодого, драгоценного для них постояльца.
Он помогал им раздеться, снимал с них шубы, развешивая на грубые вбитые в стену гвозди, где висели телогрейки и брезентовый, с меховой поддевкой плащ. Чувствовал исходящие от маминой шубы домашние знакомые ароматы, от которых сладко кружилась голова и счастливо слезились глаза. Но эта радость сочеталась с мнительным недоверием, с тайными опасениями — его милые и любимые явились к нему, чтобы вернуть его в свое лоно, прервать его одинокое вольное бытие. И это порождало в нем противодействие, которое чутко уловила мать:
— Ты что, не рад?
И он устыдился своей мнительности, своему глухому сопротивлению. Целовал любимое и прекрасное материнское лицо со следами увядания.
Тетя Поля суетливо накрывала на стол, предлагая гостям все те же томленые щи из кислой капусты, обжаренную на сковородке, оставшуюся со вчерашнего дня картошку. Гости привезли московские деликатесы — салями, копченую ветчину, банку с оливками, и тетя Поля торопилась украсить свой скудный стол тонкими яствами.
— Как у него аппетит? — допрашивала бабушка тетю Полю. — Он любит котлетки, фрикадельки. Любит домашнюю лапшу с курочкой. Домашние голубцы и ушицу из семги. Ты хорошо здесь питаешься? Как ты в детстве просил «манную кашку со сладеньким песочком»… Как у Петеньки аппетит? — строго допрашивала бабушка тетю Полю.
— Аппетит у Петрухи, как у мужика лесного. Набегается за день, придет и начнет уплетать, только скулы трещат.
Этот ответ не обрадовал, а огорчил бабушку своей деревенской простотой, и она строго, отчужденно посмотрела на тетю Полю.
Обедали. Суздальцев замечал, как неприязненно смотрит мать на алюминиевую гнутую ложку, изрезанную ножом клеенку, тарелку с глубокой черной трещиной. Как испуганно, отчужденно осматривает она деревянные венцы с торчащим скрученным мхом, закопченный печной зев и разнокалиберные чугунки. Не понимала, почему сын предпочел все это милому домашнему серебру с фамильными монограммами, их светлой комнате с хрупким прозрачным буфетом, где сиял фарфор, хрустальное стекло, перламутр. Их красивым ларчикам и безделушкам, оставшимся от давнишней, привольной и благодатной жизни, когда большая и дружная семья собиралась за обильным и хлебосольным столом. Суздальцев ловил ее взгляд, читал ее мысли, и ему было обидно за тетю Полю, на которую распространялась материнская неприязнь, и жаль было маму, которая ревновала его к тете Поле, была уязвлена его бегством, не скрывала своего страдания.
— А чего Петруху жалеть, — пробовала оправдываться тетя Поля. — Он приехал белый, как мел. А теперь, как цыган. Шейка была с карандаш, а теперь наел, в воротник не влазит.
— Разве дома ему хуже было? Вон, ногти не чищены, и пуговица на рубашке оторвана, — горько сказала мать. И ему стало неловко за свои перепачканные смолой руки, за неряшливую мятую рубаху.
Пили чай. Тетя Поля, наливая бабушке в стакан бледную заварку с несколькими сиротливыми чаинками, не замечала бабушкин надменный, строгий и сострадающий взгляд, который был понятен Суздальцеву. Бабушкины домашние заварки были черны и золотисты, благоухали, и в серебряном ситечке, накрывавшем красивую голубую с золотой каймой чашку, оставалось множество слипшихся сочных чаинок.
— Петенька в детстве был очень добрый, отзывчивый мальчик. Он был огражден нами с матерью от зла. Поэтому он и вырос таким добрым, честным, ранимым. Его не обижают здесь? Ему здесь ничего не грозит? — допрашивала бабушка тетю Полю.
— Петрухе-то? Да он со своими лесниками управляется лихо. Легко ли сказать, пять мужиков крученых-верченых. А он их в узде держит, — посмеивалась тетя Поля, откусывая кусочек сахара и хлюпая блюдцем. — Чуть что, он их так пугнет, что только метелки летят, — и она озорно посмотрела на Суздальцева, напоминая ему историю с вениками, когда он приструнил лукавого Ратникова. — Он в лесу-то березы пилит, дрова рубит, метелки вяжет, сосновые шишки лущит, деревья клеймом клеймит. Настоящий лесной объездчик.
— Боже мой, стоило кончать институт, учить языки, постигать красоту восточной поэзии и философии, чтобы после этого с мужиками веники вязать! — воскликнула с нескрываемым всхлипом мать. И у него опять сжалось сердце от боли и чувства вины, которые тут же превратились в негодование и протест, — зачем эти любимые и самые дорогие для него люди явились сюда, чтобы мучить его, еще и еще рождать в нем это чувство вины.
— Ну, пойдем, покажи, где ты спишь, — сказала мать, вставая из-за стола. Он отвел ее в свой уголок за печкой, усадил на кровать, сам поместился на стул, не зная, куда девать ноги.