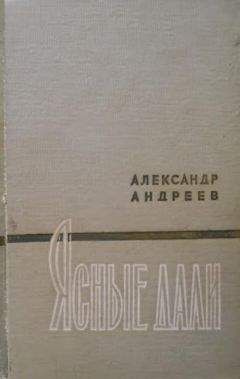— Ты два года в комсомоле, — заявил он Фургонову, чуть заикаясь. — А что ты дал комсомолу? Постой, я не так сказал. Дать ты еще ничего не мог, а что ты взял от комсомола хорошего? Какую задачу выбрал в жизни, чтобы решать?
— Он знает четыре действия в арифметике, с него довольно, — вставил Болотин, пытаясь все превратить в шутку.
Мы наступали на Фургонова со всех сторон:
— Для тебя комсомольская организация не авторитет! — резко продолжал я. — Степашин для тебя царь и бог: что он тебе скажет, то ты и делаешь, о том кричишь. А чтоб самому подумать, на это тебя не хватает. Шестерку врезал в шкатулку почему? Степашин велел. Я уверен, что ты и в карты на деньги с ним играешь, надо только копнуть. Мы тебя предупреждаем: ты все дальше отходишь от нас, от коллектива… К Степашину тебя тянет. А что за тип этот Степашин, ты и сам не знаешь… А он вертит тобой, как хочет, на побегушках у него служишь…
С другого конца послышался неторопливый, полный скрытой иронии голос Ивана:
— У нас в деревне, в колхозном стаде, овца одна водилась, гордая такая была овечка, с подругами не якшалась, презирала их, любила пастись одна. На просьбы подружек не отбиваться и не задирать нос только фыркала и еще дальше в овраг уходила гулять. Ну и догулялась!.. Подцепил ее однажды матерый волк, и тепленькую преподнес своей волчихе на ужин… — И, подмигнув Фургонову, пообещал: — Погоди, догуляешься, попадешь и ты на клык!..
Ребята оживились. Фургонов, красный и злой, рывком отодвинул стул и хотел уйти, но Никита остановил его:
— Сиди, тебе правильно говорят!
— Правильно… Нанялся я выслушивать вас… И вот точат… Подумаешь! Сами больно хороши! — ворчал Фургонов обиженно. — Пойдем на производство — увидим, кто на что горазд. Производство всех сравняет!
Вошел Сергей Петрович, тихо сел в последнем ряду и стал прислушиваться к разгоравшимся спорам.
Бригада столяров вызывала на соревнование кузнецов Никиты Доброва. Основной пункт договора — получить при выпуске пятый разряд.
— Валяй на седьмой, чего стесняться-то, — просверлил тишину насмешливый голосок Болотина.
— А то двигай прямо на мастера.
— Что вы смеетесь, болваны? — спросил Иван и встал рассерженный. — Для нашего дела не только что пятого — двадцатого разряда мало!
— Подымай выше, Ваня!
Иван с досадой махнул рукой:
— Эх, люди! — сложил губы бантиком и замолчал.
— Пусть Фургонов ответит общему собранию: будет он выполнять условия или нет? — сказал я, обращаясь к председателю.
— Что скажешь, Фургонов? Тебя спрашивают.
Парень стоял, закусив нижнюю губу. За него ответил Павел Степанович:
— Что вы его уговариваете? Будет выполнять. А не будет, так… это самое… заставим.
— Я думаю, зря вы, товарищи, подсмеиваетесь над пятым разрядом, — негромко заговорил Сергей Петрович, пробираясь между стеной и рядами стульев к столу. — Не так уж это смешно, что вы захотели получить именно пятый разряд, а не четвертый, не третий: третий вы и так получите, не прикладывая никаких усилий. Только я вам заранее скажу: не будет вам радости от этого — без труда далось, без борьбы. А там, где нет борьбы, там нет и жизни. Запомните это, пожалуйста! В начале этого года, отчитываясь перед делегатами семнадцатого съезда партии, Сталин сказал, что восемьсот тысяч таких, как вы, фабзавучников вышли на производство более или менее квалифицированными рабочими. Будем стараться и докажем, что и мы можем стать квалифицированными рабочими. Будем бороться! Во всякой борьбе должна быть цель. Эта цель есть у вас, фабзавучников, — получить пятый разряд и стать полноценными для завода людьми. Есть цель и у народа и его партии, только неизмеримо больше, выше — построение коммунистического общества. И цель вашей жизни, вашей борьбы, подобно капле в море, растворяется в общей борьбе партии, народа.
Слова Сергея Петровича, произнесенные простым, отеческим тоном, действовали на нас вдохновляюще и призывно. В заднем ряду кто-то глубоко и облегченно вздохнул.
— Народ верит своей родной партии, — продолжал Сергей Петрович спокойно, — она умеет побеждать и победит, она достигнет намеченной цели!.. Вот так же и вы, каждый из нас… — Оратор помедлил, взгляд его пытливых глаз задержался на Фургонове: — Вот, скажем, Фургонов… Он умеет преодолевать трудности, и мы уверены: на него можно положиться, не подведет, добьется цели, станет мастером своего дела.
Головы ребят повернулись к Фургонову; тот с недоумением озирался вокруг, часто хлопая белесыми ресницами. Павел Степанович сморщил лоб и озадаченно пошевелил губами.
— А вот Болотин, — указал Сергей Петрович на Болотина, — этот боится трудностей, на такого человека положиться опасно: подведет.
Шея Болотина удивленно вытянулась, веснушки разбежались по лицу; сдерживая слезы обиды, он спросил:
— Почему же я не добьюсь, Сергей Петрович? Все могут, даже Фургонов может, а я не могу. Почему?..
Черные глаза секретаря ласково лучились, пальцы левой руки были заложены за широкий ремень, а правая, тронув усы, плавно протянулась в сторону обиженного, как бы погладила его по голове:
— Ты не обижайся, я ведь к примеру сказал, слышал, как ты над пятым разрядом смеялся, и сказал…
— А вы не слышали, что Фургонов вообще ничего не признает: какой разряд получать, ему безразлично!
Фургонов дернул его за пиджак и панически зашептал:
— Замолчи, слышишь?!
— Вот вы решили послать подарок товарищу Сталину, — как всем известное, произнес Сергей Петрович, мгновенно вызвав десяток горячих, нетерпеливых возгласов:
— Кто решил?
— Какой подарок? Мы ничего не знаем!
Сергей Петрович непонимающе повернулся к Никите:
— Разве вы не обсуждали этот вопрос?
— Мы ждали вас.
— Ну, все равно. — Сергей Петрович поднял руку, прося тишины и внимания. — Вот ваши товарищи — Ракитин, Добров, Кочевой, Маслов — внесли предложение изготовить собственными силами радиолу и послать ее в подарок товарищу Сталину ко дню его рождения…
В ту памятную ночь на сеновале, высказывая Никите свои мысли, я никак не мог ожидать, что они глубоко всколыхнут душу ребят. В зале стоял сплошной гул, все повскакали и хлынули к столу. Никите долго пришлось объяснять все от начала до конца; со всех сторон сыпались вопросы, советы, предложения…
Сергей Петрович незаметно вышел из красного уголка, предоставив нам самим решать вопрос до конца.
После полуторачасовых споров была избрана комиссия по выработке проекта радиолы, который она обязана была сдать через три дня для утверждения на собрании.
Среди общего возбуждения учащихся один Фургонов сидел оцепенело и, казалось, безучастно, устремив взгляд куда-то в угол, под пианино. Первый раз я увидел его лицо таким строгим и печальным. Никита, подойдя, что-то спросил у него, и он, не меняя положения и не переводя взгляда, сказал:
— Погоди, дай подумать…
Чугунов заставил ребят расставить стулья, и Фургонов сейчас же ушел из зала.
4Комната наша превратилась в штаб, в ней всегда было полно народу: у Никиты, как секретаря комсомольской организации, и у меня, как бригадира, ребята разрешали разнообразные «насущные» вопросы.
Одна Лена не заходила к нам, а узнавала все через Никиту и Саньку. Как и раньше, Санька робел в ее обществе и, не в силах скрыть своих чувств к ней, делал все невпопад.
Часто они спускались в красный уголок: Лена садилась за пианино, а Санька хмурился и играл на скрипке. Чугунов, ссылаясь на поздний час, выпроваживал всех из помещения, пододвигал кресло, кожаное сиденье которого было зашито суровыми нитками, грузно утверждался в нем и, сложив конёчком руки перед собой, замирал, точно засыпал. Лена пугала его, внезапно извлекая из инструмента оглушительные аккорды. Комендант вздрагивал и сонно стонал:
— Ну как тебе не стыдно, Лена?!
…Как-то раз, умываясь под краном, Санька спросил меня смущенно:
— Зачем ты поссорился с Леной?
— Я с ней не ссорился, — сказал я, тщательно вытирая лицо вафельным полотенцем. — Мы договорились писать друг другу. Она написала мне шесть писем… А я ей — одно. Она обиделась.
Санька с недоверием покосился на меня.
— А почему только одно?
— Почему, почему… — проворчал я. — Времени не было. Чтобы сказать ей, что ты любишь ее, достаточно и одного письма.
Но в душе я глубоко раскаивался, что так написал: мне жаль было тех писем, которые у меня отобрала Лена. Что в них было написано, какие слова, какие выражены чувства, какие мечты? Эти вопросы не давали мне покоя. Ну почему я не прочитал все письма сразу, а хотел дождаться вечера, тишины…
Санька быстро нагнулся над раковиной и подставил голову под сильно бьющую струю.