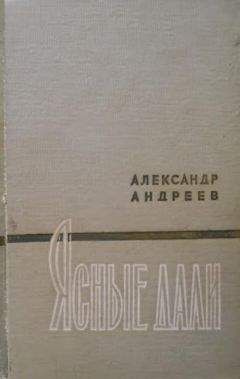С самого, начала работы стало ясно, что нам не хватает Фургонова. Он сидел на верстаке поодаль с безразличным видом, тихонько ударял угольником по коленке и пытался свистеть, но губы не слушались, дрожали. Я замечал, что его тянуло подойти к нам и заявить о себе, о своем праве участвовать в общем деле, но он не мог, очевидно, переломить свою гордость и мучительно ждал, когда мастер позовет его, самого сильного в инкрустации ученика. Но Павел Степанович после случая с «шестеркой» был сух с ним, разговаривал только в учебные часы и по делу.
Я вопросительно взглянул на мастера: что мол, делать с Фургоновым?
— Не тревожьте его. Захочет — сам подойдет, попросит. Дело это полюбовное, тут неволить нельзя… — Павел Степанович проговорил нарочито громко, специально для Фургонова.
Тот с шумом откинул угольник, сорвал с себя фартук, оделся и вышел из мастерской. Через некоторое время вернулся и стал возиться возле верстака, собирал и прятал в шкафчик инструменты, бросая в нашу сторону быстрые завистливые взгляды.
Выйдя из мастерской, Фургонов метров сто молча шел рядом со мной. Затем, дернув меня за рукав, требовательно попросил:
— Отстань немного!
Я замедлил шаг. Ровный гул — могучее дыхание завода — тяжело колебал воздух. Над корпусами, вкрапленные во тьму, светились острые точки огней. Осенний ветер раскачивал лампу на столбе, и тропа, по которой мы шли, то освещалась, то погружалась во мрак. Сунув руки в карманы пальто, подняв воротник, ссутулившись, Фургонов прерывисто кричал мне в ухо, точно захлебывался ветром:
— Ты думаешь, правильно он поступает со мной, мастер-то? Отвергает! Не заслужил высокой чести. Ну, нагрубил — это одно. Ну, я виноват, каюсь. А радиола — это ведь совсем другое дело. Разве можно ставить все на одну доску? Если бы сам Сталин знал об этом, я знаю, он бы посочувствовал: не по-товарищески поступают со мной… Чем я не заслужил, скажи? Учиться стал лучше, ты сам знаешь, по комсомольской линии нагрузку получил и справляюсь с ней, хоть Никиту спроси… Хочу, чтобы и моей работе оценку в Кремле дали… — И, опять дернув меня за рукав, сказал: — Поговори ты с ним.
— Что, у тебя языка нет? Сам говори.
— Я ж объясняю: отвергает он меня. А ты бригадир, тебя он послушает. — Фургонов схватил меня за отворот пиджака, заглянул в глаза и пробасил с угрозой и мольбой: — Будь хоть ты человеком! Никогда никого не просил так, а тебя прошу. Поговоришь?
— Ладно, — сказал я неопределенно, радуясь, что мы все-таки сломили его гонор и он будет с нами работать. — Только знаешь, Виктор, ты извинись перед ним, перед Павлом Степановичем, он на тебя обижен, ты был виноват тогда.
В следующий вечер, выбрав удобный момент, я подал Фургонову знак, и он, большой и неловкий, как-то боком подступил к мастеру, загородив ему свет, и виновато и шумно вздохнул. Мастер строго вскинул на него глаза:
— Тебе чего?
Фургонов шмыгнул носом и молчал.
— Надоело, видно, прохлаждаться-то? Как ни крутись, видно, а одному-то ходу нет. — Глядя на склоненную кудлатую голову парня, мастер сердился, но в голосе слышались отеческие нотки: — Так бы взял вот за космы да оттаскал!..
Фургонов нагнулся еще ниже, и Павел Степанович для виду потрепал его за вихры:
— Тебе работать надо, а не характер показывать. Марш на место! И чтоб я… это самое… ни одного слова поперек!..
Фургонов скакнул от него козлом, на ходу облапил Ивана Маслова, водворил его на верстак, захохотал и протрубил басом:
— Мы такое сварганим, Павел Степанович, что все ахнут!..
Однажды Лена и Никита вызвали к нам в мастерскую Сергея Петровича. Он был немногословен, но, как всегда, чуток и ласков с нами. Сняв фуражку и распахнув шинель, провел ладонью по седому виску, заложил большой палец левой руки за ремень, спросил:
— Получается? — повернул голову к мастеру: — К сроку успеем?
— Должны бы, — ответил Павел Степанович.
— Надо успеть. Работайте за счет учебных часов. Это тоже практика.
За окнами было темно, дул ветер, изредка поднимал опилки на дворе и сыпал их в стекло, точно снежную крупу, а в мастерской — тишина, тепло, домашний уют, располагающий к сердечной беседе. Сергей Петрович сел на опрокинутую набок тумбочку, уперся локтями в колени себе и на минуту задумался, глядя на белый, еще не облицованный футляр радиолы. Мы молчали, ожидая, что он скажет.
— Хорошо с вами, ребятишки, уходить не хочется! Ну, работайте.
Надвинув фуражку на самые брови, он крупно зашагал между верстаками к выходу; на полах шинели налипли опилки, и сейчас они осыпались на пол.
6В конце ноября Павел Степанович разрешил нам работать на дому. Удлинив шнур, мы спускали лампочку, и все располагались вокруг стола, выдвинутого на середину комнаты, вооруженные фанерой, калькой, клеем, линейками, резцами. Время катилось за полночь, а мы все сидели, пригнувшись над резьбой и мозаикой; тишина прерывалась только скрипом острого скальпеля о дерево и скупой переброской фраз. Ноябрь дышал осенними холодами, в студеном воздухе кружились снежные звездочки, они прилипали к стеклам окна, на секунду вспыхивали зеленоватым огнем и тут же гасли, точно сгорали, и вслед за ними ветер горстями швырял колючую крупу.
Иногда по нашей просьбе Санька играл на скрипке, тихо и мечтательно, для настроения. Дверь держали на запоре: ребята надоедали своими советами и поправками. Для Лены существовал особый знак: два частых и два редких удара. Появление старосты считалось сигналом к концу занятий или большому отдыху.
Сегодня она постучалась раньше обычного. В белой кофточке в синюю полоску, в темной юбке, тоненькая и легкая, она улыбалась торжественно-сияющей улыбкой; косы лежали на голове подобно золотистой короне, по-новому преображая и украшая ее лицо.
Она остановилась за спиной Фургонова, который выполнял главное задание мастера — делал панораму Кремля, — и через плечо стала наблюдать за движением его пальцев. Пальцы ученика выбирали нужную породу дерева — клен, красное дерево, грушу, выплавок каштана, зеленый мореный бук, орех, карагач — скальпелем отрывали от фанерного листа мелкие кусочки и осторожно лепили на кальку, подгоняя один к другому, согласно рисунку.
И постепенно возникали величественные очертания Кремля: строгая гранитная набережная, стройный ряд пышных зеленых деревьев на ней; зубчатая кирпичная стена и над ней — вскинутый ввысь острый конус древней башни; а за стеной, на холме — здание большого, ослепительной белизны многооконного дворца с развевающимся наверху флагом; за ним справа — купол Ивана Великого, а дальше, в небе, — круто взбитые клубы предгрозовых облаков. Все это причудливо отражается и дрожит на поверхности спокойных, чуть колеблемых вод Москвы-реки.
Приклеивая на кальку последние кусочки — заключительные штрихи, Фургонов потел от волнения и поминутно вытирал полотенцем лицо, шею и руки, с досадой отбрасывая назад рыжие пряди волос. Лена тихонько подобрала их на макушку и закрепила заколкой, вынув ее из своих волос. Он повернул к ней лицо; в диковатых глазах его горячим ключом билась, кипела радость труда.
Лена, наконец, отошла от Фургонова. Направляясь к Саньке, она заметила как бы невзначай:
— А электрики с механиками вас обогнали, ребята. У нас уже и радиоприемник и патефон готовы, приходите завтра смотреть.
— Еще бы!.. — хмыкнул Иван. — Вам инженеры помогали.
— А у вас мастер.
— Он нам не помогает, а руководит, — поправил Болотин, разогнав по всему лицу веснушки. — А это разница.
Фургонов распрямился, с шумом отодвинул от себя табуретку, встал и пробасил:
— Еще три-четыре дня, и у нас готов, как с иголочки… Саня, разряди атмосферу.
— Давайте кончать, — сказали мы с Иваном в один голос.
Санька выпиливал решетку кружевного узора. Отложив лобзик, он потянулся за скрипкой. В это время вошел Никита. Он был возбужден. Щеки его пылали от мороза, зябко передергивая плечами, он повесил пальто, ушанку на вешалку и проговорил с сокрушением:
— Ох, и холодина, братцы, спасенья нет! Ветер так и сечет! — Приблизившись к Ивану, он сунул ему за воротник ледяные руки. — Вот где тепло-то!..
Иван вскрикнул:
— Отстань! Что вы в самом деле: то водой в лицо брызгают, то руки за воротник суют. Не доведут до добра эти глупые шутки. Предупреждаю!..
Никита примирительно похлопал друга по спине:
— Душа смерзлась, Ваня, чайку просит. Сходи…
Иван надул губы, проворчал что-то, но отказаться не посмел.
— Давай закурим, — предложил Никита Фургонову.
— Курите в форточку, — приказала Лена.
Прислонившись к подоконнику, Никита следил, как синие ленточки дыма колыхались под потолком, текли в форточку и тут же отбрасывались назад встречным потоком ветра.