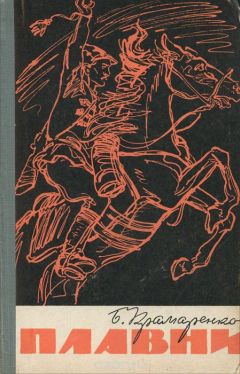— Семен на ночь выедет из станицы. Он вернется завтра вечером, Цыганенок.
— Опять!
— Что опять?
— Цыганенком дразните.
— Знаешь, Наталка, ей–богу, ты на цыганку похожа.
— Ничуть не похожа. Вы большой, и вам стыдно обижать маленькую.
— Да ты лишь чуть ниже меня, — притворно возмутился Андрей.
— Вот и неправда!
— Ей–богу, всего на вершок ниже.
— Неправда!
— Становись рядом. — Андрей подошел к висевшему на стене зеркалу. Наталка пододвинула лампу на край стола и стала сбоку.
Оба черноволосые, высокие, они удивительно подходили друг к другу, и Наталка, забыв про спор, восхищенно смотрела в зеркало. Андрей первый нарушил молчание.
— Вот видишь, а говоришь — маленькая. Наталка, как бы очнувшись, грустно проговорила:
— А вот Тимка, он ниже меня… Андрей отошел от зеркала и сел к столу.
— Ну, садись.
Он ел молча, изредка поглядывая на Наталку.
— Что–то вы сегодня плохо кушаете. Может, борщ поганый?
— Нет, борщ хороший.
Андрей отодвинул от себя миску и неожиданно спросил:
— А как насчет комсомола, решила?
Наталка вместо ответа встала, пошла быстро в свою комнату и через минуту подала Андрею листок бумаги.
— Нате, прочтите.
Заявление было написано детским неровным почерком.
В комсомольскую ячейку станицы Староминской от казачки Натальи Хмель ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в ряды комсомола. Мой отец, красный партизан, убит в сражении за свою страну с белогвардейцами. Мать — замучена и убита генералом Покровским. Брат — коммунист и командир.
Я хочу быть достойной своего отца, брата и матери. Хочу быть комсомолкой и во всем помогать партии и Советской власти.
11 мая 1920 г. Н. ХМЕЛЬ.
— Сама писала?
— Я писала, а учительница диктовала. Она тоже хочет поступить в комсомол. — Она? А полковник?
— Скорее забудет.
— Вряд ли.
— Вы же, дядя Андрей, сами говорили, что она
славная.
— Говорил.
— И что она красивая.
— Это к комсомолу не относится.
— И что вы ее любите.
— А уж это ты выдумала.
— И ничуть не выдумала, вы к ней ходите.
— Хожу за книгами… Скажи, Наталка, ты очень любишь Тимку?
Наталка покраснела и растерянно взглянула на Андрея.
— Нужен он мне!
— А все же? Впрочем, можешь не отвечать. По глазам вижу, что любишь. Вот ты вступаешь в комсомол, а что, если он стеной встанет между тобой и Тимкой? Если велит тебе вытравить любовь к Тимке из своего сердца?
— Сердцу нельзя велеть…
— Можно!
— Вы же сами, дядя Андрей, вчера мне сказали, что
Тимка с нами.
— Был.
— Сбежал?
— Да.
Слезы крупными каплями текли по щекам Наталки. Она хотела встать, но не было сил. Склонив голову на руки, она зарыдала. Андрей понял, что это слезы не только отчаяния, но и обиды и гнева. Он подыскивал слова утешения и не находил. Решил дать ей выплакать свое горе.
Прошел час, может быть, больше. Ему казалось, что уже скоро кончится ночь, но когда взглянул на часы, было только десять. Наталка перестала плакать и подняла голову. Андрей подошел к ней, сел рядом и откинул ладонью прядь волос с ее лба. Она уткнула лицо в его плечо и снова заплакала.
— Важко… Андрей! — Она впервые назвала его так, и это взволновало Семенного. — Ох, важко!..
— Знаю, Наталка.
Постепенно Наталка затихла, и лишь плечи ее изредка вздрагивали. Андрей нежно провел рукой по ее волосам.
— Ну, довольно, Наталка. Довольно, Цыганенок. Она подняла на него глаза, полные слез.
— Чувствовало мое сердце в последние дни, что этим кончится. А сделать ничего не могла. Теперь как людям в глаза смотреть? Невеста… бандитская!..
— Не горюй, Наталка. Теперь слезами не поможешь. Иди спать. Завтра еще поговорим.
Он довел Наталку до дверей ее комнаты.
— Не засну я…
— Надо заснуть.
— А вы уйдете?
— Никуда я не пойду. Иди, ложись.
Он прикрыл за ней дверь, прошел в зал и лег на кровать.
Первый десяток верст беглецы мчались по широкой проселочной дороге.
Затем дорога разделилась на две. Тимка поглядел на брата. Они свернули в сторону и, переводя лошадей на спокойную рысь, поехали по целине.
— Теперь, ежели и погоня, не поймают, — уверенно проговорил Тимка, смахивая на землю белую пену, выступившую на шее Котенка.
На самом деле он вовсе не был так уверен в успехе, как хотел показать. Ему хотелось услышать от брата подтверждение своих слов. Но Георгий молчал, озираясь по сторонам, словно он впервые видел степь, терновые кусты по краям далекой балки и коршунов в голубом небе.
Тимка, подождав немного, потянул в себя воздух.
— Хорошо после дождя! Цветет степь, так гарно пахнет…
Георгий неожиданно засмеялся.
— Ты чего? — подозрительно покосился Тимка на
брата.
— Мне завтра двадцать семь лет исполнится, жил и не замечал степи, ее красоты, привычно все было… А вот вырвался от смерти и словно впервые увидел. На риск шел, смерть за плечами нес. И только там, в камере, понял, как… умирать не хочется… Спасибо тебе, спас…
— А если генерал опять пошлет?
— Ну, нет! Пусть другого ищет. Ты прав был, Тимка, не надо было мне на это дело идти.
— Зачем же шел?
— Опасался: если откажусь, подумают, что струсил… Ну, а потом, ведь это требовалось для нашего дела, для родины.
— Для родины?
— Ну да.
— А как же председатель говорит, что красные сейчас с ляхами за родину бьются? Это что же — брехня?.. Или, может, у них другая родина?
— Родина, Тимка, у нас с ними одна, да только по–разному мы ее понимаем.
— Это как же по–разному? Помнишь, ты мне когда–то говорил, что большевики — это бандиты, что они никакой родины не признают и хотят ее немцам продать, помнишь? А как немцы в восемнадцатом году на Дон и Кубань пришли, красные с ними дрались, а вы немцам помогали… Ну, хотя бы на той же Тамани. — В голосе Тимки послышалась обида.
— И теперь, когда ляхи нашу землю хотят захватить, красные с ними бьются, а наши ляхам помогать хотят.
— А что ж, по–твоему, нам с большевиками помириться и вместе поляков бить?
Тимка побоялся сказать брату, что он как раз так и думал. Он промолчал и только грустно вздохнул. Лошади незаметно перешли на шаг. Георгий время от времени с тревогой поглядывал назад.
— Тимка, ты ничего не слышишь? — спросил он обеспокоенно.
Тимка прислушался. Его глаза испуганно расширились.
— Погоня!
Он свистнул и толкнул Котенка каблуками. Тот рванулся вперед.
Полковник Сухенко уже вторую неделю томился на хуторе. Он целыми днями просиживал с генералом Алгиным за военными картами и сводками, после обеда играл с ним в шахматы или читал ему старинные романы, добытые у Деркачихи. Вечерами генерал работал один, лишь изредка требуя к себе то Сухенко, то полковника Дрофу, часто наезжавшего в хутор.
Получаемые из штаба Врангеля письма и приказы позволяли предполагать, что день общего наступления всех сил барона близок. Следовательно, приближался и день высадки десанта на Таманском полуострове.
В Крыму лихорадочно формировались дивизии и корпуса. Создавались ударные группы под командой генералов Кутепова, Писарева, Слащова, Улагая. Ожидались новые пароходы из–за границы со снаряжением, оружием, танками, бронемашинами и тяжелыми орудиями.
Под руководством английских и французских инженеров спешно укреплялся Перекопский перешеек. Рылись двойные линии окопов, рвы, насыпались валы, создавались сильнейшие проволочные заграждения и пулеметные гнезда, устанавливались дальнобойные орудия, маскировались батареи.
Армия Врангеля, или, как она именовалась в приказах, «Русская армия», стягивалась к перешейку, чтобы занять исходное положение для наступления на Северную Таврию — одну из основных житниц страны. Корпуса генерала Слащова готовились высадиться восточнее Геническа. Подготовлялся и десант генерала Улагая на Таманский полуостров.
Генерал Алгин с каждым днем становился все более нервным и требовательным. Штаб «Повстанческой армии» состоял уже, кроме полковника Сухенко, из трех офицеров, двух писарей и адъютанта. Писали приказы отрядам, воззвания и листовки населению. Составляли общие сводки в штаб «Русской армии». Разрабатывали детали будущего наступления на Екатеринодар и Ростов.
Собственно, Сухенко некогда было скучать. Но чем лихорадочнее он работал в штабе, тем больше и больше это ему надоедало. Он тосковал по Зинаиде Дмитриевне, своей бригаде и независимому положению комбрига.
Ему настолько не нравилась теперешняя его работа, что однажды за шахматами он решился сказать об этом генералу. Алгин выслушал его молча, все время сочувственно улыбаясь, точно доктор, которому жалуется тяжелобольной. «Сейчас попросит показать язык и пощупает пульс», — с раздражением подумал Сухенко и замолчал, не окончив фразы.