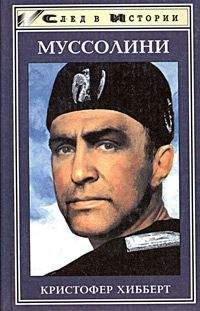Весь мир человеческой абстрактной мысли, поднявшийся на огромную высоту, откуда, казалось, не только нельзя было различить моря и континенты, но и самый шар земли, весь этот мир прочно, корнями, ушел в родную землю, от нее питался живыми соками и, вероятно, без нее не мог бы жить.
В людях, подобных Чепыжину, живет простое и сильное чувство, пришедшее в самые ранние годы отрочества. Это чувство, сознание единой жизненной цели, чувство, сознание, с которым человек проходит через жизнь до седых волос, до последнего дня. Это то чувство, что описал Некрасов в своих стихах «На Волге», вспоминая о мальчике, увидевшем бурлаков: «…какие клятвы я давал…»; это чувство, которое потрясло на Воробьевых горах подростков Герцена и Огарёва.
Но некоторым людям главное чувство цели кажется наивным пережитком, случайно и ненужно сохранившимся. Ощущения и мысли, связанные с каждодневной мелочной суетой, заполняют их духовный мир; такие люди не склонны к душевным преобразованиям, которые, подобно математическим, сокращают случайные величины, усложняющие, но не определяющие сущность явлений, они не склонны сокращать, отбрасывать, пренебрегать тем, чем можно и до́лжно пренебречь. Многие люди подчинены поверхностной пестроте жизни. Они не ощущают единства в этой пестроте. Эти люди лишь в роковой час судьбы, лишь под самый конец жизни вдруг ощущают незначительность быстро вянущей, изменчивой и случайной суеты, вновь видят то самое простое и самое важное, что им представлялось наивным либо недостижимым. Это то, что люди называют: «подойдя к концу жизни, он вдруг понял», «оглянувшись назад, увидел и тогда понял…» Такие люди часто пожинают малые, но сытные успехи. Но такие люди никогда не могут выиграть большую битву с жизнью, как не может победить полководец, не имеющий плана, не воодушевленный любовью к народу, не имеющий благородной и простой цели в войне, которую он ведет,— его боевая суета может отбить у врага город, опрокинуть полк, дивизию, но не ведет к стратегической победе. Часто позднее понимание различия важного и пустого уже не служит руководством к жизненному действию. Оно приходит в пору, когда человек подводит итог своих случайных жизненных обстоятельств и действий и произносит горькие, но не имеющие значения для дальнейшего его существования слова: «О, если б я снова начал жизнь».
Есть натуры и характеры, для которых это простое, юношески ясное, лежащее в глубине души и сознания чувство и представление о смысле и цели жизни является руководством к действию, определяет поступки, решения, планы, всю жизнь человека. Такие натуры и характеры сравнительно часто оставляют по себе след в человеческом обществе, их труд, их мысль направлены на творчество и борьбу, а не на мелкие дела, не на молекулярные движения, подчиненные сегодня только интересам сегодняшнего, а завтра, когда исчезнут сегодняшние интересы,— интересам завтрашнего дня.
Простое чувство: «я хочу, чтобы людям труда жилось свободно, счастливо, богато, чтобы общество было устроено свободно и справедливо» — лежало в основе многих замечательных жизней революционных борцов и мыслителей.
Число примеров можно расширить, охватить ими деятелей точной науки, путешественников, садоводов, строителей, оросителей пустынь. Этим ясным, юношески чистым чувством и знанием великой цели наделены многие и многие советские люди, строители нового мира — рабочие, колхозники, инженеры, ученые, учителя, врачи… Они сохраняют его до седых волос.
Штрум навсегда запомнил первую лекцию Чепыжина, его густой, чуть-чуть сипловатый голос, то учительски снисходительный и неторопливый, то вдруг быстрый и страстный; голос, точно принадлежащий политическому агитатору, а не профессору, излагающему физическую теорию студентам университета. Формулы, которые он писал на доске, тоже не были бесстрастными выражениями новой механики невидимого мира сверхэнергий и сверхскоростей, а казались призывами и лозунгами — мел скрипел и сыпался, иногда он постреливал, когда рука профессора, привыкшая не только к перу и тонким кварцевым и платиновым приборам, но и к топору и лопате, с размаху, как гвоздь, вбивала точку либо выводила лебединую шею интеграла. Эти формулы напоминали фразы, полные человеческого содержания, фразы, говорящие о сомнении, вере, любви. И Чепыжин подчеркивал это чувство, расставляя, точно в листовке либо в страстном личном письме, знаки вопроса, многоточия, победные восклицательные знаки. Больно стало, когда после лекции дежурный начал стирать с доски все эти радикалы, интегралы, дифференциалы, тригонометрические обозначения, греческие альфы, дельты, эпсилоны, кси, объединенные умом и волей человека в боевую дружину. Казалось, эту доску надо сохранить, как сохраняют ценные рукописи.
И хоть много лет прошло с тех пор, и самого Штрума уже слушали студенты, и он сам писал мелом на черной доске, чувство, которое он испытывал, слушая первую лекцию своего учителя, неизменно жило в нем.
Каждый раз, входя в кабинет к Чепыжину, Штрум волновался, а вернувшись из института, по-ребячьи хвастливо докладывал домашним либо друзьям: «Сегодня гуляли с Чепыжиным, дошли до Шаболовской радиостанции…», «Чепыжин пригласил нас с Людмилой на встречу Нового года…», «Дмитрий Петрович считает, что моя лаборатория работает в правильном направлении…»
Штруму запомнился один разговор с Крымовым по поводу Чепыжина. Это было за несколько лет до войны. Крымов приехал с Женей на дачу после многодневной, напряженной работы.
Людмила уговорила его снять суконную гимнастерку, надеть пижаму Виктора Павловича {7}. Крымов сидел в тени цветущей липы с блаженным выражением лица, которое всегда приходит к людям, приехавшим за город и после долгих часов, проведенных в жарких, прокуренных комнатах, вдруг испытавшим простое и полное физическое счастье оттого, что в мире есть душистый, свежий воздух, холодная колодезная вода, шум ветра в ветвях сосен.
Штруму запомнилось это выражение счастья на утомленном лице Крымова,— казалось, ничто не могло заставить его выйти из состояния покоя. И должно быть, именно поэтому поразила Штрума внезапная перемена, происшедшая с Крымовым, едва разговор о прелестях клубники с сахарным песком и холодным молоком перешел на «городские» темы.
Штрум сказал о том, что накануне видел Чепыжина и тот рассказывал ему о задачах новой лаборатории, организованной в Институте физики.
— Да, грандиозный ученый,— сказал Крымов,— но там, где он отходит от своих работ по физике и пытается философствовать, он, случается, противоречит самому себе как физику, не разбирается в марксистской диалектике.
Людмила Николаевна сразу вспыхнула и набросилась на Крымова:
— Да как вы можете в таком тоне говорить о Чепыжине?
А Крымов, словно не он только что благодушествовал под цветущей липой, нахмурился и сказал:
— Уважаемый товарищ Люда, в подобном случае разговор у революционного марксиста один — будь то отец родной, Чепыжин либо сам Ньютон.
Штрум знал, что Крымов прав, не раз и покойный Лебедев говорил о том же.
Но и его рассердил резкий тон Крымова.
— Знаете, Николай Григорьевич,— сказал он,— в своей правоте вам следует все же задуматься, почему такие люди, столь несовершенные в теории познания, так сильны в самом познании.
Крымов сердито посмотрел на него и проговорил:
— Это не довод в философском споре. Вы отлично понимаете, что история науки знает примеры, когда ученые в своих лабораториях являются стихийными проповедниками диалектического материализма, его последователями, его сыновьями, они беспомощны и бессильны при малейшем отступлении от него… Но едва эти же люди начинают вырабатывать свою доморощенную философию, они этой кустарной философией не могут объяснить явлений жизни, сами того не понимая, борются против своих собственных замечательных научных достижений. Я непримирим потому, что люди, подобные вашему Чепыжину, их замечательные труды дороги мне не меньше, чем вам.
Проходили годы, а связи Чепыжина со своими учениками, переходившими к самостоятельной научной работе, не ослабевали. Это была рабочая, живая, свободная, демократическая связь, объединявшая учителя с учениками крепче, сильней, чем любые другие скрепы и связи, придуманные и созданные человеком.
34
В день отъезда в Москву утро выдалось прохладное и ясное.
Виктор Павлович, поглядывая в раскрытое окно, слушал последние наставления Людмилы.
Людмила Николаевна втолковывала мужу, в каком порядке разложены вещи в чемодане, куда положены пакетики яичного порошка, пиретрум {8}, стрептоцид, старые газеты на завертку папирос из самосада, какие продукты следует есть в первую очередь, какие оставить под конец путешествия, просила привезти обратно пустые баночки и бутылки — в казанской эвакуации добыть все это представляло много хлопот.