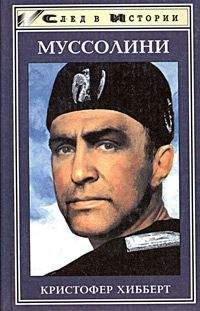— Так не забудь же,— говорила она,— список вещей, которые необходимо привезти с дачи и из квартиры, в твоем бумажнике, рядом с паспортом.
Прощаясь, она обняла мужа и сказала:
— Не переутомляйся, дай мне слово, что в случае воздушной тревоги обязательно будешь спускаться в подвал.
Виктор Павлович сказал:
— Помню свою первую самостоятельную поездку поездом во время гражданской войны. Мама положила деньги в специальный мешочек и пришила его с внутренней стороны рубахи. Тогда главными опасностями были сыпняк и бандиты…
Но когда автомобиль отъехал от дома, Штрум забыл о волнении, охватившем его при прощании. Утреннее солнце красило городские деревья, поблескивающую, увлажненную росой мостовую, запыленные стекла, лупящуюся штукатурку и кирпич стен.
Постоев, полный, высокий, бородатый, уже ждал у ворот, возвышаясь на голову среди своего семейства: жены, дочери Аллочки и худого, бледнолицего сына-студента.
Сидя в автомобиле, Постоев, привалившись к Виктору Павловичу, сказал, косясь на оттопыренные уши седого шофера:
— Вы говорите, реэвакуироваться… Некоторые осмотрительные люди уже вывезли семьи из Казани в Свердловск либо в Новосибирск.
Шофер повернулся к ним вполоборота и сказал:
— Вчера, говорят, немецкий разведчик летал.
— Ну и что ж, и наши разведчики над Берлином летают,— сказал Постоев.
Даже яркое утреннее солнце было бессильно скрасить суровый вид военного вокзала: дети, спящие на узлах и ящиках, старики, медленно жующие хлеб, женщины, одуревшие от усталости, от детского крика, призывники с большими мешками за плечами, бледнолицые раненые и едущие на переформирование красноармейцы…
В мирные времена среди едущих в поездах не только деловые люди и командированные: едут веселые курортники, студенты-отпускники и практиканты, едут разговорчивые, умные старухи поглядеть вышедших в большие люди сыновей, едут дети оказать почет старикам, а главное, много народу едет домой, на побывку в родные места.
Но в ту пору войны сурово и печально выглядели люди в поездах и на вокзалах.
Виктор Павлович пробирался следом за носильщиком по станционному залу. Вдруг послышался крик: оказалось, в сутолоке у колхозницы украли документы и деньги. Мальчик в штанишках, сшитых из плащ-палатки, жался к ней, ища защиты и утешения и стараясь утешить, а мать, держа на руках грудного ребенка, кричала отчаянным голосом — что было ей делать без билета, без денег, без справки из колхоза?
Когда Штрум проходил мимо, женщина, взглянув на него, на мгновение замолчала; страдающие, напряженные глаза ее встретились с его глазами, может быть, ей показалось, что этот человек в белом плаще и шляпе хочет помочь ей, выдаст документы, билет.
Тяжело подошел к платформе разгоряченный паровоз, поплыли запыленные вагоны. Проводник, недоверчивый к пассажирам, садящимся на промежуточных станциях, стал разглядывать билеты. «Свои» пассажиры, офицеры, едущие из госпиталей, и командированные в Москву инженеры уральских заводов выскакивали на перрон, спрашивали: «Где базар — далеко?.. Кипяток где?.. Сводку слушали, что в сводке?.. Почем тут яблоки?..» — и бежали к зданию вокзала.
Постоев и Штрум вошли в вагон, и ощущение спокойствия коснулось их, едва они увидели ковровую дорожку, пыльные зеркальные стекла, голубоватые чехлы на диванах. Шум вокзала не был слышен, но чувство покоя и удобства смешалось с тревогой и грустью: все в вагоне напоминало о мирном времени, а все вокруг дышало пронзительной бедой и горем. Поезд стоял недолго, вскоре грохотнуло негромко — подцепили к составу паровоз, к вагонам побежали офицеры и уральские инженеры, одни держа на весу чайники и кружки, другие прижимая к груди помидоры, огурцы, газетины с лепешками и рыбой.
Пришло томительное мгновение, когда все едущие ждут рывка паровоза, и даже те, кто покидает дом и близких, жаждут движения, словно оно приблизит их к дому, а не оторвет от него. В коридоре какая-то женщина, сразу потеряв интерес к Казани, озабоченно сказала:
— Проводники обещают, что в Муроме мы будем днем, там, говорят, лук дешевый!
Мужской голос произнес:
— Сводку читал? Этак немцы и к Волге подойдут, я ведь все те места знаю.
Постоев надел пижаму, прикрыл лысину тюбетейкой, полил одеколона из граненого флакона с никелированной крышкой на руки, расчесал гребнем седую плотную бороду, помахал клетчатым платком на щеки и, прислонившись к спинке дивана, сказал:
— Ну-с, как будто едем.
Штруму хотелось скорей избавиться от тягостного чувства тревоги, и он, чтобы развлечься, то глядел в окно, то наблюдал за румяным жизнелюбом Постоевым. У Постоева было больше ученых заслуг, чем у его молодого коллеги. Его манеры, раскатистый голос, снисходительные шутки, рассказы о великих ученых, которых он называл по имени и отчеству, всегда импонировали людям. По роду работы ему часто, чаще, чем другим, приходилось встречать крупных деятелей, руководивших хозяйством страны, наркомов, директоров знаменитых заводов. Его имя знали тысячи инженеров, его знаменитый учебник был принят во многих вузах. На конференциях и на широких заседаниях Штруму были приятны дружеские чувства Постоева, и он охотно сидел с ним рядом либо гулял с ним в перерывах. И когда он ловил себя на этом, он сердился за свое мелкое тщеславие, но так как на себя долго сердиться трудно, то он начинал сердиться на Постоева.
— Вы помните ту женщину с детьми на вокзале? — вдруг спросил Штрум.
— Жалко ее, так и стоит перед глазами,— сказал Постоев, снимая с полки чемодан, и тоном серьезности и искренности, которым говорит человек, понявший душевное состояние собеседника, добавил: — Да, тяжело, тяжело, дорогой мой…— Нахмурившись, он проговорил: — Как вы относитесь к тому, чтобы закусить? Вот жареная курица.
— Отношусь вполне одобрительно,— ответил Штрум.
Поезд подошел к мосту через Волгу, загрохотал, как телега, выехавшая с проселка на булыжную мостовую.
Внизу лежала Волга, рябая от ветра, в песчаных отмелях; непонятно было, в какую сторону она течет. Сверху река казалась некрасивой, серой, мутной. На холмиках и в лощинах стояли длинноствольные зенитные пушки, среди окопчиков шли два красноармейца с котелками, не оборачиваясь в сторону поезда.
— По теории вероятности, немецкому летчику угодить бомбой в наш мост с летящего на большой высоте и на большой скорости самолета да еще при порывистом, переменном ветре — безнадежное дело. Поэтому безопасней всего во время бомбежки на стратегических мостах,— сказал Постоев.— Но вот как бы нам не попасть под бомбежку в Москве; откровенно говоря, не хочется даже думать об этом.— Постоев поглядел на реку, задумался и проговорил: — Немцы приближаются к Дону. Неужели они вот так будут смотреть на Волгу, как мы с вами на нее смотрим? Кровь леденеет…
В купе у соседей баян заиграл «Из-за острова на стрежень…». Видимо, там тоже после переезда через мост говорили о Волге. Потом лады ухнули и послышалось: «Сама садик я садила…» Постоев подмигнул в сторону соседнего купе и сказал:
— Умом Россию не понять!
Поговорив о детях и казанских событиях, Постоев сказал:
— Я обычно наблюдал своих спутников в дороге и заметил: от Казани до Мурома говорят о домашних, казанских делах. В Муроме происходит перелом, и уже разговор идет о том, что будет в Москве, а не о том, что осталось в Казани. Человек в поездке, как тело, движущееся в пространстве, сперва испытывает притяжение одной системы, потом переходит в сферу притяжения другой. Вы сможете это на мне проверить. Похоже, что я сейчас усну, а когда проснусь, буду, наверное, говорить о московских делах.
И он действительно уснул. Штрума удивило, что спал он, как ребенок, совершенно беззвучно,— казалось, что человек такого богатырского телосложения должен мощно храпеть во сне.
Штрум смотрел в окно, и волнение все больше охватывало его. Это была первая поездка Штрума после того, как он в сентябре 1941 года уехал из Москвы. И событие, такое ординарное в мирное время, потрясло: он ехал в Москву!
И оттого, что в поезде как-то поблекли казанские житейские волнения и тревоги, оттого, что вдруг разрядилось постоянное рабочее напряжение мысли, не оставлявшее его ни дома, ни на улице, Штрум не успокоился, как обычно это случалось в долгой и удобной дороге. Другие чувства и другие мысли, те, что вытеснялись в каждодневной работе, в семейных и житейских заботах, поднялись в нем.
И он даже растерялся — такими сильными и властными оказались эти недодуманные мысли и недочувствованные чувства. Каким застала его война, ждал ли он ее? Он думал об академике Чепыжине, вспомнил о профессоре Максимове, о котором вечером рассказывала Надя, с ним были связаны воспоминания последних мирных недель.
Вот прошел год, самый длинный год в его жизни, он снова едет в Москву! Но ведь на сердце по-прежнему тревожно, и по-прежнему мрачные сводки, и война уже подходит к Дону.