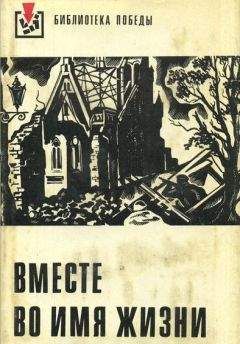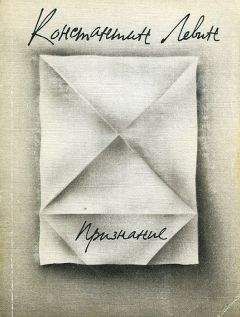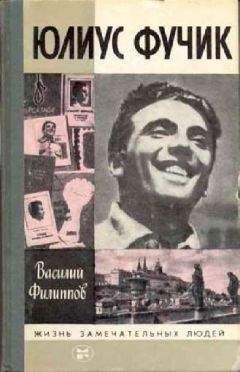— Иржик! — прошептал он.
Соседний больной покачал головой и приложил палец к губам: не беспокой его! Но Иржи уже пошевелился, открыл глаза и слабо улыбнулся.
Впервые Зденек мог разглядеть брата в спокойной обстановке и должен был напомнить себе, что Иржи всего на два года старше: ему тридцать четыре. А впрочем, кто знает, как выглядит сам Зденек, ведь он уже давно не смотрелся в зеркало. Но он видел лица окружавших его людей и лица мертвецов там, в покойницкой. Иржи не был похож ни на тех, ни на других; он казался старше, прозрачнее, словно ему было сто лет. Когда он сделал жест, приглашая брата сесть, рука его с минуту дрожала в воздухе и тотчас упала обратно на одеяло.
— Надеюсь, ты не расплачешься, увидев меня? — прошептал Иржи и мягко посмотрел на брата карими глазами, так похожими на материнские.
«Хоть глаза-то у него не изменились!» — подумал Зденек и сел.
— Как насчет кино? — спросил Иржи. — Ты все еще увлекаешься кинематографией?
— Не говори об этом. У меня уже давно другие заботы. Расскажи лучше…
— А у меня нет никаких других забот, — весело подмигнул Иржи, словно не желая допустить сентиментальный тон в их беседе. И его глаза под тяжелыми пергаментными веками ожили и улыбнулись. — Ты любишь кино, что же в этом плохого? Человек должен увлекаться чем-нибудь. Для начала.
— Говори о чем хочешь, — послушно сказал Зденек. — Я так рад видеть тебя!
— Кино — отличная вещь, — продолжал Иржи. — Само по себе оно, может быть, и пустяки. Но фильм для народа, да еще на хорошую тему, — это уже кое-что. Сделав такой фильм, можно потом далеко пойти.
Зденек кивал головой. Ему было неприятно, что брат при первой же встрече снова сел на своего старого конька, но вместе с тем его радовало, что Иржи не изменился, что у него по-прежнему есть охота спорить, словно они виделись только вчера.
— Ну ладно, товарищ идеолог, — поклонился Зденек. — Куда же, например, я могу пойти с помощью фильма?
Иржи улыбнулся:
— К нам. К правде.
— Я делаю что могу, не сомневайся.
Но Иржи уже развивал свою мысль и не хотел отступиться от нее.
— Фильм, — повторил он, — отличная штука. Я, знаешь ли, часто говорил себе, что у тебя большое преимущество перед всеми нами: тебе, наверное, удастся воссоздать правдивые картины всего этого… — Его рука опять поднялась, дрогнула в попытке жестикулировать и бессильно опустилась.
— Я тоже подумывал об этом, — сказал Зденек. — Но о фильме мы поговорим потом, когда ты выздоровеешь…
— Нет, пожалуйста, не надо откладывать. Скажи мне сейчас же, как ты представляешь себе фильм о концлагере. Полным озлобления, отчаяния, ненависти?..
Зденек взглянул ему в глаза:
— А ну тебя! Я бы хотел знать, как ты себя чувствуешь, чего тебе не хватает…
— Об этом не беспокойся! — Иржи со стариковским упрямством покачал головой. — Сейчас речь идет о тебе. Сделать фильм ты должен обязательно!
— Есть дела поважнее.
Иржи нетерпеливо шевельнулся:
— Да, конечно. Но их сделают другие. А ты займешься фильмом, понял? Именно фильмом. Для тебя ведь существует только кино.
Зденек не выдержал:
— Перестань насмехаться надо мной. Я уже понял, что ошибался и что ты был прав, тысячу раз прав! Мне нужно было ехать с тобой в Испанию, клянусь, я осознал это. Во всем мне нужно было быть вместе с тобой — и в редакции работать, и уходить в подполье.
— Ну, а сейчас ты хнычешь попусту, — растерянно прошептал Иржи и положил свою слабую руку на плечо брата. — Честное слово, я не хочу отговаривать тебя от работы в кино. Мне не нравилось, как ты относился к ней раньше. Искусство для искусства… и для самого себя, карьера, ну, сам знаешь. А теперь — нет, теперь ты должен работать в кино, Зденечек!
Зденек не отвечал, он плакал, ему нужно было выплакаться. Иржи гладил его по плечу и настойчиво шептал:
— Я бы и сам занялся вместе с тобой этим делом, кабы мог. Кто знает, может быть, и я изменился? Но ты снимешь этот фильм и без меня. И смотри, избегай торопливости в творческой работе: это было бы ошибкой. Куй оружие мудро, не спеша, тщательно. Помнишь оружейника Гейниха с нашей улицы?.. Пусть в твоем фильме будет все, что ты накопил в памяти, все, что ты видел. Не хнычь, а показывай! О маме помни, но не говори о ней в фильме, пусть она незримо присутствует, только не надо надгробного плача и слезливости. Покажи, как мы сюда попали, как боролись…
Зденек поднял голову, жадно прислушиваясь к словам брата.
— Я знаю, ты бы хотел фильм о политических, о том, как тут работала партия… — сказал он.
— Нет-нет, не делай из этой картины наставления о том, как надо вести себя в концлагере. Внушай людям, что таких лагерей не должно быть, как не должно быть нового Гитлера и всего того, что его породило. Понял? И что за это надо бороться.
Глаза Иржи вспыхнули.
— Не хочу вмешиваться в ваши дела, — сказал вдруг сосед Иржи, тот самый, что вначале сделал Зденеку знак не будить брата. — Но вы совсем спятили. Неужели нужно все обговорить в первый же день? У вас хватит времени — вся зима впереди.
— Не хватит, Курт, оставь! — Иржи снова повернулся к Зденеку. — Понял ты, в чем дело?
Тот кивнул.
Ему не хотелось спорить с братом, все же он тихо возразил:
— Так можно писать в «Творбе» [25]. А в кино лозунги не годятся… Если я не сумею передать в художественных образах…
— Сумеешь! — Иржи попытался поднять голову, но у него не хватило сил. — Сумеешь! — повторил он уже слабее. — Покажешь лагерь. Но не только мучения, холод, голод, хотя и это все должно быть в фильме. В первую очередь нужно показать, что гитлеризм делает с людьми — с тобой, со мной, с эсэсовцами, с любым человеком, как он натравливает одних на других, доводя человеческие отношения до полного распада. Но прежде всего ты покажешь, как человек все-таки сопротивляется, не поддается этому…
— Успокойся, Курт совершенно прав. Уж я как-нибудь сделаю все это. А сейчас отдохни, Иржик.
— Не могу: нет времени, — улыбнулся брат. — Я уже никогда не отдохну.
Еще дрожала на прогалине одинокая осина, заблудившаяся среди елей, дрожала сильнее, чем на ветру. Солнце опускалось за горы, и последние лучи его трепетали в бледно-зеленой, чуть ржавой листве. Последние выстрелы будоражили долину и, словно отдаленные раскаты бури, замирали где-то на крутых склонах.
Лесная трава еще была примята, а над малинником стоял едкий пороховой запах. Но едва подсохла кровь на папоротнике, как на прогалине проснулась жизнь. Серый дрозд порхнул на малинник и засвистал; плакун-трава поднялась с земли, распрямилась, выровнялась, словно свеча, вспыхнуло лиловое пламя ее цветов. Не поддалась она кованому сапогу.
В кустах малины неподвижно лежали двое. Дрозд долго смотрел на них любопытными глазами-бусинами, потом встрепенулся и засвистал, но вдруг голос его пресекся и крылья пугливо затрепетали. Один из лежащих шевельнулся и с трудом приподнялся, опершись на локоть. Лицо его исказилось от боли. Стиснув зубы, он смотрел на свои ноги.
Сквозь материю на брюках проступала кровь. Судорожно распрямив пальцы, он пристально разглядывал их. Да, это его руки: пальцы, ладони — все цело.
На лоб его набежали морщины, и правая рука потянулась к винтовке. Он оперся на нее и окинул взглядом прогалину, покрытую цветами.
Да, здесь прошел кованый сапог, но плакун-трава поднялась. Смерть налетела как смерч, а он все-таки жив. Плакун-трава и он. Потерял сознание, потерял много крови, но сердце бьется.
— Пале, Пале, — простонал он, увидав лежащее рядом тело. Он схватил Пале за плечи и стал трясти. Потом положил руку на его лоб и с отчаяньем прохрипел: — Умер!
Собственный голос испугал его. Вместе с Пале ходили они в школу. Были влюблены в одну девушку. Вместе ушли к партизанам. А теперь его товарищ мертв.
Ему стало холодно.
Умер… Пале умер! А где остальные? На прогалине никого не было. Даже дрозд улетел.
Внизу, в долине, гремели выстрелы.
«Это немцы возвращаются, стреляют для храбрости», — подумал он и, не оставляя винтовки, пополз по мягкому мху. Сухой черничник похрустывал под ним. На ноги не встать — очевидно, перебиты мышцы.
Он долго полз вверх по косогору, а когда солнце зашло, обессиленный, свалился на бок и мгновенно уснул.
Когда он проснулся, сентябрьское солнце стояло высоко в небе. Раны жгло меньше, но от тупой боли ноги совсем одеревенели. Наверное, он спал как убитый и ни разу не шевельнулся во сне. За это время паук сплел паутину между двумя еловыми ветками и протянул прозрачную нить к лопуху рядом с прикладом его винтовки.
Раненый партизан протер глаза, перевернулся на спину и мутным взглядом посмотрел на паука-крестовика. Тот обвивал паутиной трепещущую мушку. Партизан с жалостью следил за несчастной жертвой.