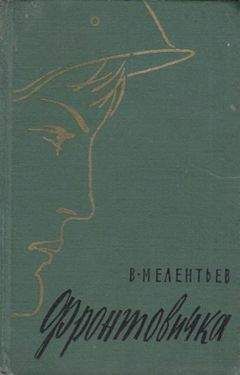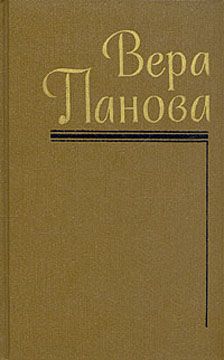Он нашел. Он честный, и он ее. Не материн, а только ее. И ради него, усталого, ей стоило жить.
Она мечтала о том, как они встретятся, как будут жить вместе и как она будет служить в его полку переводчицей, разведчицей, кем угодно, и никогда никому не скажет, что она его дочь. Просто однофамильцы. Хотя пусть лучше все знают, что она его дочь, и удивляются или даже не удивляются, а умиляются тем, что вот она служит с ним и воюет. Мечты становились расплывчатыми, неясными, но очень приятными. И чем дольше она думала, тем сильнее хотелось узнать о нем хоть что-нибудь.
Она медленно пошла в штаб госпиталя, медленно поднялась на крыльцо и, сдерживая улыбку, украсившую ее бледное, вытянувшееся лицо, спросила у писарей, кто видел вчера подполковника, который разыскивал Радионову.
Оказалось, что его видели все, и она со странной тревогой, точно ожидая, что они скажут что-нибудь такое, что перевернет ее сегодняшнее светлое представление об отце, попросила:
— Расскажите, какой он. Я не видела его… много лет.
Писаря — пожилые, серьезные люди — переглянулись и взглядами предоставили слово одному — лысому, в больших очках.
— Как вам сказать… Обычный подполковник. Спокойный, по-моему, очень культурный. Видимо, из кадровых. Лицо чистое, но уже, извините, в морщинах. И виски седоватые. А так… особых примет нет. Руки и ноги целы.
Валя облегченно вздохнула:
— О чем он спрашивал?
Писаря опять переглянулись.
— Так ведь о чем в таких случаях спрашивают? Какое ранение, опасно ли? А у вас, как известно, ранения нет. Ну, где воевали. Уточнили, сколько могли. Да… вот еще. Тут как раз вчера пришла выписка из приказа на ваше имя. Вам звание сержанта присвоили, так вот он очень этому обрадовался.
Валя не успела обрадоваться новому званию, но она радостно улыбнулась, потому что этому обрадовался отец. Она хотела спросить еще что-нибудь, но это казалось уже неудобным, а уходить ей не хотелось. Положив руку на грудь, она стояла у двери и, нерешительно переминаясь, разглядывала помещение штаба — вчера здесь стоял отец и тоже разглядывал и эти шкафы, и обитые железом ящики, и походные столики, и этих пожилых, солидных писарей.
В комнату кто-то вошел, писаря вскочили со своих мест и отдали честь. Валя не обратила на это внимания: она была занята своими мыслями. Вошедший остановился возле нее и строго, слегка визгливо спросил:
— А вы почему не приветствуете старшего по званию?
Валя вздрогнула и посмотрела на спрашивающего. Это был упитанный фельдшер с колбасками бакенбард. Валя сразу вспомнила вчерашний день и все с той же полуулыбкой на счастливом лице мягко и даже проникновенно сказала:
— Если бы вы только знали, как я вас ненавижу за то, что вы не поехали вчера сразу же домой. Ведь из-за вас я не увидела отца.
Фельдшер опешил, побагровел и взорвался:
— Это черт знает что! Кто ее пустил сюда? Сейчас же вон!
Он так смешно и в то же время солидно и обстоятельно кипятился, так потешно махал руками, что Валя протянула, совсем как Лариса, осуждающе, зло и насмешливо:
— Эх вы, интеллигентный… балбес! — И благодарно кивнула писарям: — До свидания, товарищи.
Фельдшер что-то кричал, но она уже не слушала его. В конце концов, все, что с ней будет в ближайшее время, не так уж важно. Нашелся отец. И она будет с ним. Вот это важно.
Но она ошиблась. Случай этот оказался важным. Фельдшер доложил о непростительной дерзости сержанта Радионовой и потребовал ее наказания. Заместитель начальника госпиталя по политической части вынужден был провести расследование и, расспросив писарей, пришел в палату. Все ее обитательницы уже знали и о приезде Валиного отца, и о скандале в штабе: Валя находилась в том расслабленном состоянии, когда хотелось делиться всем и со всеми. Поэтому, когда замполит узнал от нее подробности дела, из которого выходило, что сержант Радионова, безусловно, совершила грубейшее нарушение воинской дисциплины и должна понести наказание, неожиданно вмешались девчонки. Они наперебой начали рассказывать о том, как фельдшер приставал к одной из больных и какие гнусные предложения он ей делал.
— И вы понимаете, товарищ капитан, разве может девушка стерпеть такое? Понятно, что Радионова ответила за всех нас. И если вы не примете мер, честное слово, мы напишем в политотдел.
Положение усложнялось. К замполиту поступила вторая, еще более опасная жалоба, и он на минуту задумался. Потом спросил у Вали:
— По какому поводу лежите у нас? Ранение или…
— Без всяких «или», — вспыхнула Валя, но сдержалась: — Но и без ранения. Перелом ребер и ключицы.
— Упали, что ли?
— Да нет, — улыбнулась Валя.
— Она разведчица, понимаете? — вмешались девчата. — И ее ударил немец, когда она брала его в плен. Ее к Герою представлять будут, — самоотверженно соврали девчата.
Худенькая, небольшого росточка, с огромными холодноватыми глазами и редкой челкой, сержант Радионова никак не походила на разведчицу, которая могла взять в плен немца. Замполит с сомнением покачал головой и, пообещав зайти еще раз, ушел.
В штабе он уточнил подробности проступка и вдруг обнаружил, что в пересланной для передачи Радионовой выписке из приказа сказано, что внеочередное звание ей присвоено за мужество, проявленное в ходе поиска. Замполит вызвал фельдшера и разъяснил ему, что, во-первых, раненые не должны отдавать чести, во-вторых, ему, лейтенанту медицинской службы, не пристало охотиться за девушками, пребывающими на излечении. Если это повторится, командование примет соответствующие меры. И в-третьих, поскольку сержант Радионова действительно виновата, на нее будет наложено взыскание по выздоровлении. Во время лечения делать этого не следует.
Через несколько дней в госпитале появилась деятельная Лариса. Она принесла все свое и Валино имущество.
— Вот полечусь маленько по-женскому, — откровенно смеялась она, — а там будет видно.
— А что у тебя? Что-нибудь серьезное?
— Дура ты, Валька. Ты на меня глянь, чего у меня серьезного может быть. Просто пришла в санбат и наговорила на себя. Сказала, что в этом госпитале есть хороший врач по-женскому. А чего мужики понимают, хоть они и врачи? Он и смотреть не стал, да и я б не далась. Выписал направление и — айда. Чего же делать, мужики все хитростью берут, а нам сам бог велел.
Ларису поместили все в ту же женскую палату, и она немедленно заполнила ее грохотом перестановок, поломойками, постирушками, сердитыми разговорами. Выслушав Валин рассказ об отце, она чуть всплакнула. И только после этого вынула письма.
Мать точно указывала цены на продукты, с достоинством жаловалась на усталость и немного на Наташку, которая совершенно отбилась от рук. Второе письмо было от студентки Ани. Уже одна ее фамилия на обратном адресе заставила Валю нахмуриться — о ее существовании она совсем забыла. Аня писала темно-лиловыми, почти черными, отливающими на солнце чернилами капризные, упрекающие слова.
«Вот уже полгода, как растет его сын, но вы даже не поинтересовались судьбой мальчика. Я знала, что у вас черствое сердце, но ведь должно же быть у человека хотя бы чувство благодарности. Сева спас вас — вы сами в этом признались. Почему же вы не подумаете о его ребенке? А между тем я точно знаю: на фронте вас снабжают очень хорошо, и при желании вы всегда могли бы найти возможность что-нибудь переслать. Я пишу это не для того, чтобы выклянчить у вас подачку. В конце концов, это мой долг честного, никогда и никого не обманывавшего человека — хоть как-нибудь влиять на неблагодарных людей…»
Письмо было длинное, прилично-нудное. Вначале оно вызвало только озлобление: по какому праву она упрекает и поучает? Хорошо снабжают! Сунься сюда и тогда узнаешь и качество и цену снабжения. И почему она должна помогать?!
И тут озлобление кончилось. Опять началась обида. Но уже не на других, а на себя, на свое неумение жить, на свою холодность. Аня права. Нельзя было забывать Севиного ребенка. Неважно, любил он Валю или нет. Важно, что у погибшего товарища ребенок.
А разве она не виновата перед Виктором? Разве она сделала хоть что-нибудь, чтобы удержать и поддержать его в самые трудные для него минуты? Даже Лариса и та… Как она волнуется, как старается помочь, вот даже в госпиталь перебралась. А что ей взамен?
И вся обида, что исподволь накапливалась в Радионовой, переплавилась в обиду на себя. Но то была святая обида, потому что за все эти минуты самоосуждения она ни разу не подумала о том, что ей пришлось перенести за это время, перенести не ради собственного удовольствия, а ради своей Родины, ради того, высшего, из-за чего она пошла в комсомол и на фронт. Все это было само собой разумеющееся и такое чистое, что прикасаться к нему даже ради собственного спасения было бы кощунством.