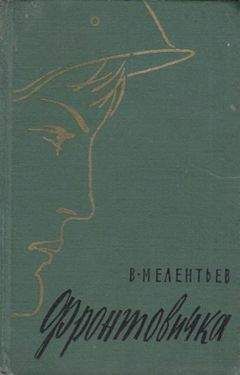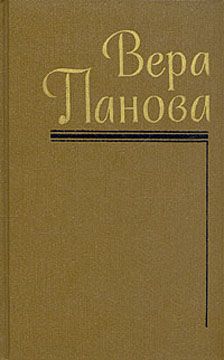Об этих частях люди фронта ничего не знали, и немногие понимали, почему одни соединения вдруг снимались с передовой и отводились в тыл, другие становились на передовую, а третьи кочевали из леса в лес. Об этом знали только в недрах штабов, да пытались узнать вражеские разведчики.
Время относительного отдыха и безделья фронтовиков-строевиков было самым бессонным и самым трудным временем для штабников и разведчиков.
Тщательно укрытый от постороннего взгляда процесс перемещения назывался периодом стратегического развертывания и походил на таинственный инкубационный период, в ходе которого вызревают жестокие птенцы боев.
Вот в одну из таких переформируемых бригад и попали Лариса Холостова и Валя Радионова.
Кроме них в бригаде были еще две женщины: старший лейтенант медицинской службы Анна Ивановна — черненькая, худенькая женщина, жена начальника санслужбы, и машинистка политотдела — флегматичная, всегда грустная и всегда что-то жующая Липочка. Анна Ивановна жила с мужем в старенькой, переделанной под жилье полуторке. Липочка ютилась в политотделе. С приходом в бригаду двух новеньких начальник политотдела приказал построить для них отдельную землянку.
— Видала, — торжествовала Лариса, — это не то, что в нашей кочевой. Тут народ ценят.
В танковой бригаде действительно все было не так и не такое, как в дивизии. И началось это «не такое» с того, что первая беседа состоялась не с кем-нибудь, а с подполковником Красовским, начальником политотдела. В дивизии Валя видела начальника политотдела только на концертах да проезжающим из частей в штаб, или наоборот. Поговорить с ним ей так и не пришлось. А здесь с этого начиналось.
Невысокого роста, полный, бритый, с острым прищуром маленьких глаз и красивыми, но всегда крепко сжатыми губами, он удивительно умел слушать, будто впитывал в себя слова. И оттого что люди видели, как впитываются их слова — доброжелательно, с интересом, — они легко и просто рассказывали то, что тщательно скрывали от других. Так случилось и с Валей. И чем дольше длился ее рассказ, тем меньше щурился начальник политотдела, глаза у него теплели и губы разжимались. От этого его мясистое, красное от загара лицо стало мягким и доверчивым.
— Ну, вот что, девушка. Школу ты прошла хорошую. Теперь тебе других учить надо. Да-да. Во взводе, где ты, очевидно, будешь служить, немало бывших заключенных. Знаешь, есть такая мода — совать их в разведку. И мы этого не обошли. Ты это учитывай, потому что тебе нужно будет стать не только разведчиком и переводчиком, а прежде всего комсомольским организатором, — и, увидев Валино удивленное лицо, разъяснил: — А как же? Сержант. Образование. Отец у тебя кадровый командир. Воюет. А там, среди этой братии, и неплохие ребята есть. Суды у нас тоже, бывает, ошибаются.
И это было удивительно: слушать об ошибающихся судах и говорить о комсомольских делах. Ведь за все время пребывания в дивизии ей нечасто приходилось вспоминать о том, что она комсомолка. Это было само собой разумеющимся — раз ты честный советский молодой человек, значит, ты комсомолец. А здесь, в бригаде, прежде всего заговорили о комсомольских делах. Это и радовало, и тревожило, а главное, заставляло задумываться. От этого острота ожидания отцовского письма чуть-чуть притупилась, отошла, заслоненная новым большим делом.
Первое знакомство со взводом произошло на бревнах, возле строящейся землянки. Одиннадцать рослых молодых мужиков встретили ее настороженно, с веселым и слегка пренебрежительным интересом, но место на бревнах уступили. Валя села и, привыкшая постоянно бывать с мужчинами, легко и просто рассказала о себе.
Высокий худощавый ефрейтор с расстегнутым воротом гимнастерки мягким, рысьим движением просунул ей руку под мышку и привлек к себе:
— Выходит, маруха фартовая, — сказал он и покосился нахальными, холодными глазами на товарищей.
Вот тут опять пригодилось самбо. Валя прижала левым бицепсом его запястье, правой рукой схватила за кисть, дернула на себя, вскочила и, прежде чем ефрейтор сумел напружиниться, опрокинула его на землю. Потом приподняла и отставила ногу, словно для удара. Ефрейтор привычно съежился, прикрыл обеими руками живот и втянул голову в плечи.
— Не бойся… — холодно сказала Валя и опустила ногу. — Я таких не трогаю.
Взвод тоже вскочил и явно разделился. Одни — а таких было большинство — смотрели на нее с откровенным восхищением, другие — с настороженной злобностью.
— Встать! — резко крикнула Валя, и ефрейтор Зудин вяло поднялся, изогнулся и, не поднимая низко опущенной головы, сумел обжечь ее взглядом светлых жестоких глаз. Он длинно и грязно выругался и, вихляясь, отошел в сторону. К нему подошли двое дружков.
Не оборачиваясь, Валя громко сказала:
— К сведению ефрейтора и двух его подчиненных. Мое звание — сержант. А с вами, товарищи, познакомимся.
Она протянула руку самому близкому — хмурому, широкоплечему парню, с тяжелыми, квадратными скулами. Парень смотрел на нее злобно, но в этой злобе было что-то ненастоящее, словно не она была главным в нем, а что-то другое, а злоба только скрывала это главное, как ширма.
— Меня зовут Валя. А вас?
Парень молча утопил ее руку в своей огромной, заскорузлой лапище и стал медленно сжимать ее. Вначале Валя применила уже не раз испытанный прием — ведь таких остроумных людей она встречала не раз, — расслабила пальцы. Но парень все так же медленно и неотвратимо сжимал и сжимал свою лапищу, и боль все сильней и сильней пронизывала Валину руку. Она уже поняла: пощады не будет и, не отрываясь, смотрела в глаза парню, не вырываясь и не кривясь. А он все жал и жал. Вале хотелось кричать. Начинало казаться, что уже хрустят косточки, но она молчала и широко открытыми глазами смотрела в его темные глаза и видела, что за ширмой злобы мелькает что-то непонятное и очень сложное. Он отвернулся и отпустил, почти отбросил ее руку. Она перевела дух и спросила:
— А как все-таки тебя зовут?
Он быстро взглянул на нее, жалко, растерянно и в то же время со странной, просящей надеждой улыбнулся и привычно злобно буркнул:
— Геннадием. — Подумал и добавил: — Генкой.
Вероятно, это было смешно, но никто из взвода не шелохнулся, никто не усмехнулся. И Валя поняла состояние своих будущих товарищей. Она устало, мягко улыбнулась и протянула левую руку следующему разведчику.
Ей жали руку осторожно и почтительно, как учителю, и смотрели так, будто видели что-то новое, непривычное но, кажется, заслуживающее уважения. Валя нарочито капризно пошутила:
— Жаль, что на гитаре теперь не сыграешь… Но ведь до свадьбы заживет? — И уже совсем иным, деловым и даже строгим тоном спросила: — Товарищи, комсомольцы есть?..
И ей с готовностью ответили несколько голосов. Она записала фамилии в блокнот, который на прощание подарил ей начальник политотдела, поговорила с каждым из них и ушла, так и не взглянув ни на ефрейтора, ни на его дружков. Чем дальше она отходила от бревен возле котлована, тем сильнее усталость наваливалась на плечи, и ей хотелось спать, как после удачного, но трудного концерта. Она спросила себя, не играла ли она перед этими ребятами, не выдавала ли себя за кого-то другого, и ответила:
— Нет, просто я была такой, какой хотела быть.
Пока Валя знакомилась с разведчиками, Лариса осваивала выстроенную для них землянку и знакомилась с Липочкой. Знакомство это прошло успешно, потому что, когда Валя пришла домой, Лариса уже покрикивала так же, как и в «девичьей» избе.
— Липка, сходи по воду.
Липка, перестав жевать сухарик, бежала по воду.
— Ну, дура, — озабоченно, но с оттенком восторга покачала головой Лариса. — Как таких в политотделе держат.
Потом Валя ходила знакомиться с Анной Ивановной и заодно выклянчила у нее марли для занавесок на окна и полочки. Врачиха напомнила ей другую, черненькую и, должно быть, худенькую после родов, Аню, и Валя боялась, что разговор с ней не получится. Но Анна Ивановна оказалась на редкость словоохотливой и добродушной. Она не только достала марлю, но и вытащила откуда-то старые, но тщательно накрахмаленные простыни и наволочки, подарила Вале вышитую дорожку и салфеточку.
— Если бы выгнали, как важно женщине сохранить уют. Без этих мелочей грубеешь, перестаешь понимать, что ты — женщина.
Анна Ивановна пошла вместе с Валей и сразу же вмешалась в общие дела по устройству жилья. Лариса встретила врача настороженно и первое же ее предложение сурово отвергла. Анна Ивановна минутку подумала и спросила:
— А вам не кажется, что вот так будет лучше?
Лариса милостиво согласилась. И как-то получилось так, что, хотя все придумывала и делала Анна Ивановна, утверждала и руководила все-таки Лариса.
К вечеру в странно белой, какой-то воздушной землянке пахло землей, духами, свежеокоренным деревом, цветами и еще тем необыкновенно чистым, приятным и терпким, чем пахнут девичьи общежития.