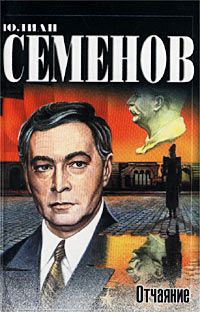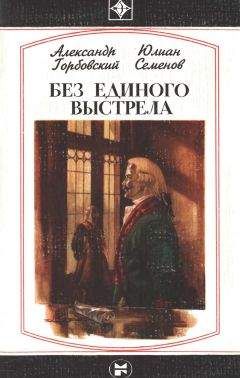…Комурова министр обычно принимал без очереди, прерывая встречи с другими сотрудниками, ибо знал, сколь дружен Богдан с Берия.
Так и сегодня он радушно усадил его за маленький столик, заказал порученцу «липтон» с английскими печеньицами «афтер эйт» и, порасспросив о домашних, приготовился слушать своего могущественного подчиненного.
…Абакумов стыдился признаться себе в том, что панически боялся Комурова. Он боялся его не потому, что видел в деле: и на фронтах, когда случалось какое ЧП, и в камерах, где он лично пытал тех, кто отказывался сотрудничать со следствием при написании того или иного сценария для процесса (работал в майке — волосатый, неистовый; воняло потом, и это более всего запомнилось Абакумову: не крики начальника Генерального штаба Мерецкова, которого он истязал в июле сорок первого, а именно едкий запах пота); он боялся Комурова потому, что не мог понять таинственной непоследовательности его поступков и предложений, которые каким-то странным образом оказывались в конце концов верхом логического умопостроения, законченным, абсолютным кругом.
То ли он счастливчик, есть такой сорт людей, которых постоянно хранит Бог, то ли в нем была сокрыта какая-то потаенная, неизвестная ему машина, которая умела превратить хаос в порядок.
Это последнее страшило его более всего, даже больше, чем дружеское покровительство Берия.
Мне Берия тоже покровительствует, размышлял Абакумов, он мою кандидатуру назвал, век не забуду, зато я теперь бываю у генералиссимуса чаще, чем Лаврентий Павлович; кто знает, не придет ли час моего торжества, если я почувствую время, когда на стол Сталина нужно будет положить те материалы, которые помимо моего приказа сами по себе приходят в этот дом, ложась пятном на Берия. Тут и думать нечего! А узнай генералиссимус о девках маршала?! Если б пять-шесть, у кого не бывает — а ведь уж под две сотни подвалило!
Девок-то этих, как блядушек, так и именитых матрон, моя служба проверяет: не болтают ли, нет ли молодых любовников с трипаком или сифилисом, не имеют ли осужденных родственников…
…Комуров достал из папки постановление на расстрел террориста, власовского недобитка и предателя Родины Исаева, готовившего покушение на товарища Сталина, полностью признавшего свою вину, заявившего, что, если выйдет из тюрьмы, все равно уничтожит «тирана, губителя ленинизма».
— Это дело прошло мимо меня, — удивился Абакумов.
— Мимо меня не прошло, — ответил Комуров. — Нужно добро товарища Сталина, чтобы в нас с тобой каменьями не кидали.
— А кто же в нас с тобой может кинуть каменья?
Комуров вздохнул:
— Товарищ министр, во многия знания многия печали.
— Сколько раз повторять: я для тебя был и остался Виктором! Как не совестно тебе?! Или не гожусь в друзья?
Комуров подвинул ему постановление и ответил:
— Твои враги, Витя, — мои враги… Наши, говоря точней… За Исаева хлопочет наш с тобой подопечный Соломон Абрамович Лозовский… Это у меня зафиксировано… Документально… Перед Шкирятовым слово замолвил… Понял? А Матвей прислал мне: «Почитай, поэзия»…
— Где дело?
— У меня… Прикажете передать?
Абакумов понял, что Комуров снова загнал его в угол; просить прислать материалы после резкого перехода на «вы» — значит портить отношения.
— Как только буду у генералиссимуса — подпишу. Справочку только составь покрасивей, ладно?
— Хорошо, Витя, справку я тебе завтра же подготовлю.
Когда порученец принес «липтон» и печенье, Абакумов сам разлил кипяток, опустил пакетики в стаканы, поинтересовавшись, не хочет ли Богдан покрепче: «Два пакетика по эффекту воздействия равны рюмке хорошего вина».
— Какого? — спросил Комуров. — Крепленого? Или кавказского?..
Сейчас что-то попросит, понял Абакумов, постановления ему мало, неспроста он про крепленое спросил, кто-то из моей охраны им стучит, что я мадеру пью, только в их компании нахваливаю всякие там цинандали и мукузани. Рот вяжет, вода водой, не берет, а государь не дурак был, мадеркой баловался. «Женский коньяк»! Пусть называют как хотят, а по мне лучшего вина нет: и сладко на вкус, и пьянит томно…
— Хорошего вина в бутылках мало, — ответил Абакумов уклончиво. — Вот когда меня грузины угощали зеленым сухим вином прямо из бурдюков — это, я доложу, сказка! Хотя грузинскую «Хванчкару» люблю даже в бутылках…
— У нас есть лучше вина… Скажи, Витя, тебе о Рюмине ничего не докладывали?
— О Рюмине? — переспросил Абакумов, нахмурившись. — Кто это?
— По Архангельску работал, подполковник…
— А почему должны были докладывать? ЧП? Запросить?
— Не надо. Я прошу твоей санкции, дай его мне, буду готовить к хорошему делу.
— Да, пожалуйста, — сразу же согласился Абакумов. — Тут моей санкции не нужно, подписывай приказ сам, используй по своему усмотрению.
…Вопрос о Рюмине был задан не случайно: подполковник попал «на подслух», находясь в квартире некоего Шевцова, за которым давно смотрели — крайний шовинист; крепко выпил и сказал: «А ведь в одном бесноватый фюрер был прав: евреев надо изничтожить! Смотрите, кто у нас сейчас ведет главную борьбу против родины? Кто продает страну за иностранные самописки? Евреи! Кто критикует русских писателей и артистов? Еврейские космополиты! Кто клевещет на русских шахтеров в кино? Еврей Луков, под русским псевдонимом прячется, сволочь! Кто завел в тупик нашу экономическую науку? Еврей Варга! Кто клевещет на нашу историю? Евреи. Кто какофонии сочиняет? Еврей Шостакович!»
Кто-то из присутствующих заметил, что Шостакович русский.
Рюмин и Шевцов взъярились: «Нет таких русских фамилий! И уши у него еврейские!»
Поскольку Влодимирский разрабатывал Еврейский антифашистский комитет, Комуров сразу прикинул, что такой человек может пригодиться. Однако потом, подумав, решил взять этого Рюмина под свою опеку, надо сначала обкатать, а использовать — лишь тогда, когда наступит черед для коронного дела. Берия намекнул, что политика Кобы будет однозначной, поскольку экономически русских еще больше зажмут, надо будет обращаться к их патриотизму, подчеркивать исключительность, поставляя «врагов», виновных в трудностях.
— Спасибо, Витя, — поднимаясь, сказал Комуров. — И за чай спасибо. Действительно, прекрасный напиток… Только абхазский лучше, честное слово… Пришьют еще тебе этот чертов «липтон»… Товарищ Суслов в этом деле строг, поимей в виду… Ты лучше адлерский чай хвали, он русский. Краснодарский край, казаки, опора державы… Советую как другу, Витя…
С этим и ушел, оставив Абакумова в мрачной задумчивости.
…Домой министр вернулся рано, сказав помощнику, что захворал, мигрень. Велел соединять только с Поскребышевым и членами Политбюро, для всех остальных министров — закрыт.
Дочь уже вернулась. Он предложил ей поиграть в «морской бой»; сражались с увлечением, потом перешли на «крестики-нолики», он поддавался, изображал огорчение, любимица хохотала. Потом принесла колоду карт, сразились в «дурака».
Отодвинув руку с картами так, чтобы дочка могла подглядывать, с тоскою думал: «Бедненькая ты моя кровинушка, случись что со мной, тебя такой ужас ждет, такие муки… Зачем я лез вверх, карабкался по проклятой лестнице?! Служил бы себе тихо и незаметно, так нет же, понесло! У нас только тихие выживают… Лишь маленькие да незаметные своей смертью помирают… А как уйти от судьбы? Мы ж все букашки, нас сверху в микроскоп разглядывают… Богдан неспроста этого самого Рюмина попросил… Он ничего просто так не делает, у него всегда коварство на уме… А потребуй я материалы, сразу настучит Лаврентию: „мелочная опека, мешает инициативе, что за недоверие среди своих?“ Пойди, объясняйся! Он ведь член Политбюро, а не я… Бедненькая ты моя нежность». Он поднял повлажневшие глаза на дочь: «Пойти бы в церкву, как с бабушкой Леной, покойницей, да и бухнуться на колени, прижаться лбом к вечным плитам храма Господня и помолиться б за нее… Мне-то ничего не страшно, огонь и воду прошел… Да и не отмолю себя, ее б уберечь…»
— Папуль, а ты почему не кроешь? У тебя же козыри есть! Так нечестно!
— И вправду есть, — вздохнул Абакумов, — отобьюсь, сей миг покрою, малышенька…
— Ты мне не поддавайся, я ж не маленькая! Неинтересно играть… А знаешь, меня сегодня училка отчитала…
— Вот проказница… За что?
— Я не смогла ответить, когда было покушение на Владимира Ильича…
Ну, завтра этой суке шею накрутят, подумал он, девочку попусту травмирует; ответил, однако, иначе:
— Такие вещи надо знать, дочура… В Ильича стреляла эсерка Фанни Каплан, космополитского племени, ей Бухарин пистолет в руки дал…
— Вот она б тебе двойку и влепила! — рассмеялась девочка. — Первое покушение на Ленина было в январе, еще в Петрограде! Его тогда какой-то швейцарец спас, собой прикрыл…