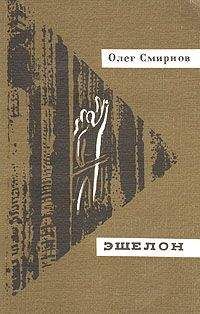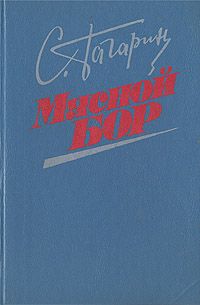— А папки нету, — уже согласным голосом добавил Федотик.
— Папки нету, Федотик.
— А мы с тобой рядышком ляжем?
— А вот на печку и ляжем.
Они через ноги Охватова по полатцам залезли на печь и, умащиваясь там в тепле, уютно ворковали. Полусонный голосок Федотика был полон счастья, и Охватову почему-то вспомнилось свое, такое далекое, будто и не свое…
Жили они еще в деревне. На дворе была осень, и пахло первым зазимком, холодной землей. На крыльце, на досках, что брошены к колодцу, лежит тонкий иней, который тает даже под пальцами. За колодцем — морковная грядка, на ней по-живому ядрено зеленеет ботва, а с краю грядка осыпалась, и видны крепкие морковки, холодно— сочные и сладкие. Колькина мать вырезает в огороде капусту и белые кочаны носит к колодцу. Через одинарные рамы окна Колька слышит, как хрустят тугие кочаны, падая в кучу. Он уже давно решил стригануть за морковкой и ждет, когда мать уйдет в конец огорода… На одних пальчиках пробежал холодными плахами крыльца, приплясывая на стылом песке дорожки, приподнял воротца, чтобы не скрипнули на ржавых навесах, открыл и побежал к колодцу, легкий, босоногий. Но мать — разве ее проведешь? — увидела, подняла крик, и полетел Колька назад без морковки, лишь красные ноги засверкали у самой спины. Потом грелся на печке — от горячих кирпичей нестерпимо горели голые подошвы, а сверху ступни были холодные, и он прикрывал их ладошками. Вскоре пришла мать. Не раздеваясь, в шали и стеганке, пахнущая молодым морозцем и капустой, залезла на печь, отодвинула какие-то тряпицы, села на кирпичи, блаженно охнула и положила перед Колькой вымытые мокрые морковки. Он хрустко ел их, а она, привалившись к трубе, дремотно, ласково глядела на него и почему-то все вздыхала…
— Мамк, а сирота — серый, что ли?
— Сирота, Федотик, значит без отца, без матери.
— А что бабка говорит мне: сирота?
— А ты не слушай ее. Ну спи давай. Спи уж теперь.
Охватову и не спалось, и не лежалось, и был рад он,
что не мог уснуть: уж давно он так остро и близко не переживал свое прошлое, чтобы и прошлое, и настоящее слилось в мучительно неразделимое. Ему казалось, что он всю жизнь знал эту теплую сыроватую избу, знал ее хозяйку и мальчика и что встреча с ними совсем не случайна. «Как же так?! — приятно дивился Охватов. — Она и старше-то меня на два-три года, а все: молоденький да молоденький… Мать. Одно слово — мать…»
Он поднял руку к кромке печи и столкнулся с ее ищущей рукой. Тут же как подброшенный сел на полатях, утопил лицо свое в ее ладони и начал целовать ее мягкие пальцы.
Потом они лежали рядом и, счастливо близкие, утомленные, тихонечко смеялись, оттого что до сих пор не знали имени друг друга.
— Я будто вечно знал тебя.
— И я.
— Как же дальше-то, Лиза?
— У нас тут все говорят, что немцы должны сюда прийти.
— Пришли уж.
— Может, тебе остаться? — зашептала она, щекоча его ухо своими губами. — Я бы тебе дала мужнину одежонку, и сойдешь за хозяина. А так сгинешь без вести— повести. Что вы двое-то? Полчеловека да калека. Турнут же его потом, откопаем твою форму — и снова пойдешь.
— Это уже дезертирство, Лиза.
— Батюшки, слово-то какое! Будто обдирают тебя.
Она гладила его лицо и говорила тем же ласковым голосом, что и Федотику:
— Ну и спи давай. Спи уж теперь.
Он наговорил ей много нежных слов и, растроганный, вдруг признался в том, что смутно назревало в нем:
— В армию, Лиза, пошел, распрощался не только с домом, а с жизнью. Конец всему. Бьют пожилых, опытных, грамотных, а нас, как курят слепых, даже считать не станут. Учились потом, ехали на фронт, а у меня, кроме страху, ничего за душой не было. Убьют, и только. А вот в бою побыл, из-под верной смерти ушли мы, и понимаю теперь, не такой уж слепой я. И не кончена жизнь. Даже смешно немножко, что захоронил сам себя раньше времепи.
Перед утром он снова забылся, а Лиза лежала, широко открытыми глазами глядела в темноту и верила, что Николай останется с нею на смутную пору.
Клепиков поднялся затемно злой и раздраженный, потому что плохо спал: донимала боль в руке, мучила неизвестность грядущего дня, мешало неумолчное перешептывание хозяйки с солдатом.
— Лешаки вы окаянные! — ругался он, спешно собираясь. — Всю ночь спать не дали. Напали друг на дружку, возня, да шушуканье, да чмоканье. Тьфу, язвите!
— Мы, может, поженились! — с вызовом сказала хозяйка.
— Немец вот придет, обвенчает. Будьте здоровы. Мне недосуг.
— Ты что, дядя, уходишь? А я? — всполошился Охватов, залезая в шинель.
— Ты останешься, по-моему, при хозяйстве.
— Вот мое хозяйство, — весело сказал Охватов, натягивая на плечи вещевой мешок, в котором гремели магазины-рожки, набитые патронами, и ручные гранаты, круглые и ловкие, как крупный, обкатанный галечник.
На дворе было светло, когда вышли из избы. Маленькая улочка хутора выводила в широкое поле, и со стороны поля тянуло острым низовым ветром, густо сдобренным холодным дымом и близким снегом. В кустах татарской жимолости, росшей вдоль огорожи, звонко и радостно тенькали синицы, а низкое белесое небо было совсем зимним. Вокруг стояла тишина.
Пока Клепиков выводил лошадь, Охватов и Лиза стояли у ворот. Она, прихватив шаль у подбородка, мигала своими темными печальными глазами, и в ресницах ее копилась слеза.
— У меня ведь, Лиза, жена на Урале, — не к месту подумалось Охватову о Шуре, и он ляпнул совсем ненужное. Потом, чтоб как-то обесценить сказанное, рассмеялся сам над собою, но в прищуре Лизиных глаз уже метнулось непримиримо-женское:
— Я сама солдатка, и за твою жену у меня сердце не колыхнется. Тем более что твоя спокойно отсидится там, а нас на кого вы бросаете? На немца? Потом упрекать начнете, а мы виноватые, а? — Голос у Лизы прервался; она проглотила захлестнувшие ее слезы и по-иному, с покорной печалью сказала: — Ты не терзайся перед женой— то… Вы для нас теперь что пальцы на руке — какой ни возьми, тот и твой. Серая шинелка всех сравняла… Может, и моего где приласкают.
Клепиков с огорожи взгромоздился на лошаденку и выехал на дорогу. Охватов пошел за ним. Они еще жили по своим, родным законам: на ночь прибились к жилью, а с рассветом — в путь прямоезжей дорогой. Им еще было неведомо, что на той земле, где они оказались, уже действовали другие законы: ходи ночью, таись днем, как мышь в норушке.
Не успел Охватов догнать едущего шагом Клепикова, как ветер донес треск мотоциклов — густой, дробный и резкий. Охватов оторопело остановился и только сейчас вспомнил о войне. А из лощинки на гребень дороги выскочили одна за другой пять или шесть машин, не сбавляя скорости, помчались на хутор, поливая его из пулеметов. Под Клепиковым сразу убило лошадь, а сам он кубарем скатился в канаву и, пригибаясь, побежал к кустам жимолости. Туда же, в заросли, метнулся и Охватов, увидев на бегу, как Лиза, все еще стоявшая у ворот, вдруг схватилась за столб и, заметнув голову, присела.
Он не знал верно, что с ней, но по сердцу ударила жуткая догадка. Он пополз по канаве к воротцам, а потом не вытерпел, поднялся и побежал. Лиза лежала ничком на затрушенной соломой дорожке, у крыльца, спрятав лицо свое в ладонях. Охватов опустился на колени и перевернул ее на спину: лицо и руки ее были залиты кровью, а сама она, сжавшаяся и маленькая, вся тряслась и стучала зубами.
— Лиза, Лизанька! Милая, что ты? Что с тобой?
— Федотик мой, Федотик, — испуганно шептала она, поднимаясь на ноги и с горькой материнской мольбой глядя в глаза Охватова. — Федотик мой, Федотик.
Шальная пуля глубоко рассекла Лизе правую щеку и порвала мочку уха, но женщина в горячке не чувствовала боли, а все звала и звала сына. Охватов втолкнул ее в сенки, захлопнул за нею дверь и только сбежал с крыльца, как по дорожке, стенам, окнам и дверям дома щедрой горстью рассыпался пулеметный высев.
— Какая жизнь! Какая жизнь! — безотчетно говорил и говорил Охватов, перебегая к воротцам и хоронясь за толстым воротным столбом. Пули с ядовитым посвистом прошивали короткую улочку хутора, с треском обивали редкий лист на кустах жимолости. В тот миг, когда Охватов собрался перебежать в канаву и сунулся из-за столба, услышал сзади резанувший по сердцу острый женский вопль, напрочь пронзивший и стрельбу, и шум моторов, и свист и щелк пуль:
— Федотика моего, люди!..
Сознавая смертельную опасность, подступившую так близко, Охватов первый раз не думал ни об опасности, ни о своей смерти, потому что знал, что делать, а жизнь или смерть сейчас его не занимали. Он по канаве подполз к Клепикову. Тот, прижавшись щекой к земле, все глотал и никак не мог справиться с наполнявшей рот слюной; глаза его были широки и бессмысленны: у бойца не имелось никакого оружия.
— На тебе! На, на! — выбрасывая из своего мешка гранаты, приговаривал Охватов. — Бери давай!