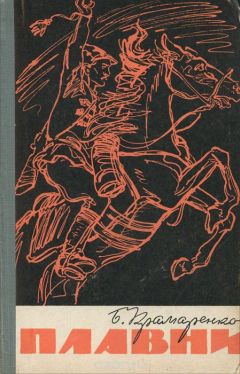Наталка вздрогнула: тяжелая ладонь брата легла на ее голову.
— Не горюй о нем, Наталка. Андрей для него вторым отцом был, а он со своим братом его… убить хотели.
Вдали, между деревьями, показалась высокая фигура Андрея. Он нес табурет и, поставив его напротив качалки, сел.
— Фу, жарко становится.
— Лето уже, Андрей.
— Да… Июнь скоро. Сейчас бюро было. Еду в Ростов.
— Один? — Да.
Андрей достал из кармана смятый листок бумаги, исписанный кудреватым, писарским почерком, и подал Хмелю…
— Прочти.
Хмель взял левой рукой листок и, не дочитав, скомкал.
— Тьфу! Пакость какая! Где нашел?
— Такие бумажонки кладутся бойцам под подушки, в сапоги и даже под чересседельные ремни… Ну, спокойней! Тебе нельзя двигаться… Цыганенок, фельдшер был?
— Был…
— Что сказал?
Вместо Наталки ответил Хмель.
— Очумел тот фельдшер: две недели лежать еще надо.
— Раз надо, значит, будешь лежать.
— Надоело, Андрей.
— Ничего… полежишь. В Ростове подберу начальника гарнизона.
— А Бабич?
— В Каневскую просится, к Остапу в помощники… Абрам идет. Каков гусь: с учительницей под ручку!
Андрей поднялся, подхватил Наталку и, взяв ее шутливо–торжественно тоже под руку, пошел им навстречу. Зинаида Дмитриевна еще издали закричала:
— Андрей Григорьевич, вы представить себе не можете, какая вы с Наталкой замечательная пара! Правда, Абрам Соломонович?
— Да, да!
Наталка хотела вырваться и убежать, но Андрей удержал ее за локоть.
— Погоди, Цыганенок, они ведь шутят.
— Они насмехаются, дядя Андрей. — Наталка надула губы и обиженно глянула на учительницу. — Ты, тетя Зина, выдумала, а дядя Андрей меня все — Цыганенок да Цыганенок… А теперь опять…
Зинаида Дмитриевна обняла Наталку и поцеловала в щеку.
Вот уж и не думала… Ты черная, высокая. Андрей Григорьевич — тоже…
Комиссар, желая подразнить Наталку, сказал:
— Ты, Андрей, сватайся, а то я тебя опередить могу. Наталка не выдержала и показала ему язык.
— Нужны вы мне, сутулый такой!
Комиссар невольно расправил плечи и засмеялся.
— Ну, раз называешь меня сутулым, я тебе отомщу: не приму сестрой милосердия в роту.
— Дядя Андрей!..
Из конца сада раздался слабый голос Хмеля:
— Чего вы там остановились, идите сюда! …Незаметно подошел вечер, и из сада пришлось уйти.
Семена Хмеля осторожно перенесли в зал, положили на кровать Андрея, пододвинули к ней стол. На нем поставили маленькую лампу, налитую конопляным маслом. Тусклый свет ее едва достигал середины комнаты, оставляя углы и стены в полутьме.
Андрей сел между комиссаром и Зинаидой Дмитриевной. Наталья примостилась в ногах у брата.
— Дядя Андрей, расскажите что–нибудь, — попросила Наталка.
— Пускай комиссар расскажет.
— Он не умеет. Ну, расскажите, дядя Андрей! Только не страшное, а то я из хаты буду бояться выйти. Расскажите…
— Да не, какие уж тут рассказы… — Андрей поднялся и вынул часы. — Уже спать пора!
— Дядя Андрей! — захныкала Наталка.
— И слушать не хочу! Семену нужен покой, а мне с комиссаром чуть свет вставать.
Зинаида Дмитриевна тоже встала и подошла к Наталке.
— Спокойной ночи, Цыганенок! — Они обнялись и пошли в кухню. Следом за ними вышли из комнаты Андрей и комиссар.
Пройдя через двор, Зинаида Дмитриевна задержалась с Наталкой у калитки и протянула Андрею руку.
— Желаю счастливой поездки, Андрей Григорьевич…
1
— Господа казаки! Уже недалек тот час, когда мы снова поднимем священную войну с большевиками. Мы будем драться с ними за казацкую волю, за наши земли, за святую Русь, порабощенную ими. Недалек тот час, когда мы вернемся в наши станицы победителями…
Командир сотни хорунжий Георгий Шеремет, немного волнуясь, прохаживался перед строем спешенной сотни. Левой рукой он придерживал шашку, отделанную слоновой костью и серебром, а правой сжимал прут, взмахивая им в такт словам.
Тимка стоял на правом фланге своего взвода и смотрел на брата. На затылке он ощущал горячее дыхание Котенка, мягкие губы коня щекотали ему шею.
Сотня вышла утром из хутора и направилась к выделенным ей для постоя степным хуторам. Перед тем как разъехаться взводам, хорунжий Шеремет должен был сказать им несколько слов. На последнем офицерском совещании в хуторе нач штаба Сухенко дал каждому командиру листки с написанным конспектом речи.
Кончив говорить, хорунжий подал команду, и казаки взметнулись в седла.
— Спра–а–а-а-ава по–о–о тро–о–е-е…
— Шаго–о–о-о-ом ма–а–а-р-рш!
Тимка прижал шенкелями Котенка и вырвался вперед. Рядом с ним ехал командир взвода, уже седой подхорунжий Степан Шпак.
Сперва отделился первый взвод. Свернув вправо, он взял направление на виднеющийся вдали зеленый островок фруктовых деревьев и акаций.
Когда очередь дошла до второго взвода, Георгий Шеремет передал команду над оставшейся полусотней командиру третьего взвода и поехал рядом с Тимкой. Они свернули в сторону и зарысили по обочине дороги.
— Ну, как?
— Чего, Ера?
— Хорошо я говорил?
— Слова какие–то у тебя… — Тимка щелкнул пальцами, подыскивая выражение, — выдуманные, не настоящие. — И заметив, что брат обиделся, переменил разговор.
— Мать с Полей теперь со двора, должно, не выходят, боятся.
— Молчи уж… у самого сердце изболелось. Одна думка: скорей бы!..
— Ера, Врангель царем будет?
— Нет, Тимка, будет военная диктатура.
Тимка не понял, что такое «диктатура», да это его сейчас и не интересовало. Когда он спасал своего брата от неминуемой смерти, не было времени думать о том, что будет дальше. Он не хотел, чтобы его брат убил председателя, но он не мог бездействовать, когда над его братом нависла смертельная опасность. И вот теперь, когда брат спасен, Тимка с горечью понял, что возврата назад нет. В дом Семена Хмеля, где его приняли как своего родного, он теперь сможет зайти лишь как враг. Между ним и Наталкой встали ее брат, председатель и все ее друзья. Разве сможет она теперь любить его?
Воображение нарисовало ему картину их встречи. Вот он во главе конного взвода казаков мчится по знакомой улице; впереди затихает беспорядочная стрельба. Вот он вместе с другими врывается в дом Хмеля…
О какой любви может он сказать этой перепуганной девушке с меловым лицом и распущенными волосами, прижавшейся спиною к печке? И видит он, как Наталка, заметив его в кучке ворвавшихся в дом, гордо выпрямляется, и уже не испуг, а презрение и ненависть читает он в ее черных глазах…
Тимка вытирает рукавом чекменя пот со лба и подъезжает к командиру своего взвода.
— Господин подхорунжий! Разрешите петь.
Шпак кивает головой. Тимка сдвигает папаху по–черкесски — на самые брови — и оборачивается назад:
— Стройся по–о–о шести–и–и!
Он осаживает коня и едет в середине первой шеренги. Котенок, нагнув шею, идет ровным шагом. «Ему все равно, кому служить, — думает Тимка. — Врангелевец я или большевик, лишь бы доглядывал за ним да овса давал побольше».
— Господин взводный, что же вы, запевайте!
Тимка с удивлением посмотрел на своего соседа справа, уже немолодого усатого казака, и, неожиданно для себя, затянул песню, сложенную казаками в лагере полковника Дрофы:
Как у плавнях добре жить,
Колотушкой вошей бить…
Казаки, забывая жару и усталость, подхватили:
Эх–ха! Эх–ха–ха! Колотушкой вошей бить…
Плавни гулом гудут.
Комары нашу кровь по ночам сосут.
Эх–ха! Эх–ха–ха! По ночам сосут…
У изгиба небольшой речки с илистым, вязким дном и заросшими камышом берегами расположилось несколько хат. По фасаду вместо заборов — высокие тополя. Под окнами — неуклюжие клумбы панычей, красного мака и анютиных глазок, кусты вьющейся розы и сирени.
Во дворах — хозяйственные постройки под камышовыми крышами, а за ними — колодцы и длинные деревянные корыта с водой для скота.
За колодцами — фруктовые сады, потом — огороды по склону и обрываются у самой речки. У берега, в прогалине камыша, виднеется лодка, привязанная к колышку. Тимка и высокий парень, дравшийся с ним на хуторе Деркачихи, идут по огороду к речке. На плече у парня большой шест. Тимка несет плетеную кошелку и сачок. Оба в нижних рубахах и босиком.
— Раков у нас, Василь, по–разному ловят, а больше руками, а вот сазанов лучше всего на червяка.
Тимка оглянулся и, понизив голос, таинственно проговорил:
— Берешь круг макухи, сверлишь в нем дырку, пропускаешь туда шварку с камнем… Такой круг бросить с вечера на то место, где думаешь ловить, — верное дело, да ежели еще красного червяка… — Тимка мечтательно причмокнул языком. — А сазаны-ы фунтов по семь!