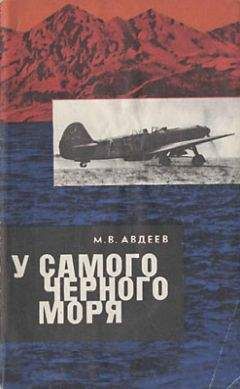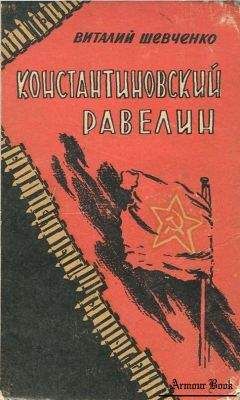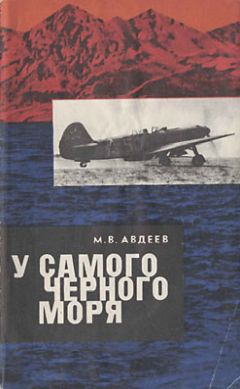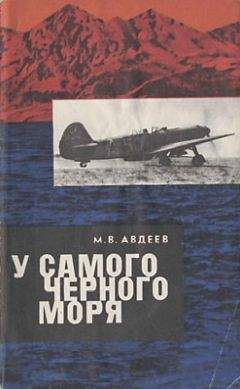Военные моряки Черноморского флота! Деритесь так, как дерутся бойцы Красной Армии на подступах к Москве, как дерутся славные моряки Кронштадта, полуострова Ханко и на подступах к Ленинграду…»
Кончив читать, сестра сообщила:
— Есть решение Военного совета: тяжелораненых эвакуировать на Кавказ.
Кругом зашумели.
— Не выйдет!
— Не поедем!
— Не имеете права!
Сестра вздохнула:
— Я же сказала — тяжелораненых.
Но шум только усилился. Видя, что уговоры не помогут, сестра избрала другую тактику.
— Я думала, вы сознательные бойцы. В Севастополе не хватает врачей. Нам нужно быстрее возвращать в строй тех, кто сможет драться через неделю-другую. Кроме того, здесь нет необходимых препаратов. Лежать тяжелобольным здесь — значит увеличивать срок лечения. Этого ли вы хотите?..
Такое прозвучало как оскорбление. В палате наступила тишина.
— Если вы хотите скорее вернуться в строй, нужно ехать на Кавказ…
На Любимова уговоры не действовали. Только когда он узнал из записки комиссара, что, во-первых, это — приказ, а во-вторых, весь полк перебазируется туда же, он вынужден был согласиться…
Там, недалеко от Дарьяльского ущелья, в госпитале, он встретил товарища по фронту — майора Яшкина, однополчанина, командира эскадрильи. Его подожгли в бою на другой день после катастрофы с Любимовым.
Лицо в страшных ожогах, запекшиеся кровью бинты — таким предстал перед Иваном Степановичем летчик, про которого в полку говорили: «Он в театре красну девицу играть может».
— Вместе веселее, — грустно сказал Яшкин. — Тебе все кланяются. Правда, парламентер, то есть я, выглядит для столь торжественного случая неважно, но «се ля ви» — такова жизнь, как говорят французы… Впрочем, я зубоскалю, сам не знаю для чего. Тебя не развлечешь, и у самого на душе кошки скребут. Такая война идет, а нас уже выбили…
— Это мы еще посмотрим, — огрызнулся Любимов. — Это мы еще посмотрим, Яшкин, выбили нас или нет… Вот только бы скорее выбраться из этого постылого госпиталя.
— Все может быть, Иван Степанович, — покорно согласился Яшкин. — Все может быть… Только не дадут нам больше летать.
— Дадут!
— Куда уж там, — летчик взглянул на свои бинты и бинты Любимова. — Впрочем, говорят, медицина теперь делает чудеса…
Яшкин замолчал.
— Хватит гадать на кофейной гуще! Расскажи лучше, как там… в полку…
— Всякое в полку… Очень за тебя волновались. Ныч, комиссар наш, самую настоящую конференцию собрал. Разбирали твой бой… С Шубиковым тоже беда…
— Что такое?! — обеспокоенно спросил Любимов.
Участник боев в небе Испании, еще в то время награжденный орденом Красного Знамени Шубиков был гордостью Черноморского флота и любимцем полка. Его знал каждый мальчишка Керчи, Севастополя, Новороссийска.
— Ты знаешь, что командир оберегал его. Не давал летать в самое пекло. А тот, видимо, понял, обиделся. А тут как раз и задание: в тыл, на уничтожение немецких пушкарей. На подвес — Литвинчука и Данилина. А кого на прикрытие?
Для полетов в тыл противника мы приспособили тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Подвешивали к нему два, три самолета И-16. Они летели как «пассажиры», сохраняя горючее. В расчетном месте отцеплялись, наносили штурмовой удар и возвращались домой, своим ходом.
— Тут Шубиков и насел на командира полка, — продолжал рассказывать Яшкин, — отпусти да и только. Одним словом, упросил. Полетел прикрывать Литвинчука и Данилина…
— И что же?
— Данилин и Литвинчук атаковали батарею. А Шубиков отошел в сторону расположенного рядом немецкого аэродрома, блокировал его, не давал взлетать истребителям.
— Да не тяни ты! Вернулся Шубиков? — задыхаясь, проговорил Любимов.
— Нет… Данилин и Литвинчук искали его, пока хватило горючего. Потом мы обшарили все вокруг. Во время этих поисков я и столкнулся с «мессером». Подбил его. Но и мне досталось. Посадил машину всю в пламени. Ребята из кабины вытащили. А то бы сгорел.
— А Шубиков? — тихо спросил Любимов.
— Его сбили…
Гибель друга потрясла Любимова. Многое пережил он. Многое выдержал. Но это известие до краев переполнило чашу…
Наутро у него резко поднялась температура.
В палате все уснули.
Любимов осторожно приподнимает одеяло, рукой дотягивается до протеза. Берет. С надеждой смотрит на него. Невесело улыбается.
— Летчик Любимов… Анекдот какой-то. С такой-то ногой…
В душе поднимается ярость. Нет, сдаваться еще рано… Надо драться, драться до последнего!..
Вчера он примерил протез впервые. Острая боль сковала все тело…
Ничего, он пережил и не такие боли. Негнущиеся, словно не свои, чужие руки застегивают ремни. Шаг… Второй… Третий… Главное сейчас — выбраться в коридор. А то ненароком свалишься здесь — всю палату разбудишь.
Еще шаг… Осторожно… Вот уже дверь… Обратно до кровати добрался уже в изнеможении. Нет, отдыхать еще рано. Теперь — гимнастика и массаж. Держась за койку, приседает. Боль… Жгучая боль. Надо пересилить ее. Пересилить во что бы то ни стало! Теперь — согнуть ногу в колене. Еще раз…
— Вот черт, тебя уже по городу носит! — капитан Давид Нихамин обнял Любимова. — Привет тебе от наших. Велено взять тебя из госпиталя, отвезти к жене…
Любимов до глубины души рад однополчанину. Спрашивает:
— Слушай, ты мне друг?
— А ты сомневаешься?! Иначе бы не прилетел за тобой, — смеется летчик.
— Нет… Только скажи правду. Одну только правду. Что говорят в полку обо мне? О дальнейшем…
Нихамин нахмурился, помолчал. Видимо, он раздумывал, как смягчить удар.
— Рано о будущем говорить, Иван Степанович. Отдохнуть надо, подлечиться…
— Сейчас война, дружище… Ты это знаешь не хуже меня… Ты сам стал бы сейчас отдыхать?!
— Должно пройти какое-то время. Придется, видимо, поработать, пока затянутся раны, в тыловой части. У тебя огромный боевой опыт. Его нужно передавать…
— Ты не хитри… Мне все ясно. Но должен тебя огорчить — в тыловую часть я не поеду…
— Ладно, Иван, решим на месте. А сейчас — на аэродром. В госпитале — я заходил — документы твои уже оформлены…
Маленький Ут-2 шел на Чистополь.
— Смотри, какая красотища внизу! — кричит Нихамин. — Особенно отроги гор. То белые, то голубые, то зеленые.
Любимов менее всего был склонен сейчас к лирике. Неожиданно пришедшая в голову мысль не давала ему покоя.
Вдали показался Сталинград.
— А была, не была, спрошу! — решился Любимов. — Он не должен, не смеет отказать. Он же летчик. Должен понять.
Сталинград остался позади.
Любимов вытащил записную книжку, вырвал листок, написал: «Дай до Чистополя управление. Очень прошу». Подумал… И передал записку Нихамину.
Тот прочел, испуганно оглянулся.
«Дай!» — молили глаза Любимова.
Нихамин не выдержал, махнул рукой: «Бери!»
Так… Левая рука привычно лежит на секторе газа. Правая — на ручке управления самолетом. Ноги — на педалях. Мягкий нажим на ручку в левую сторону, одновременно — вперед левую ножную педаль. Левую. Там, где протез. Самолет накреняется, далекие предметы на горизонте медленно уходят вправо. Теперь обратно, в нейтральное положение. Одновременно — ручку и ножную педаль. Все. Самолет послушно выходит из крена, из разворота. Идет в прямолинейном горизонтальном полете. Теперь все так же вправо. Далекие предметы уходят влево. Снова рули нейтрально…
Чувствуя необычайный прилив энергии, Любимов громко и счастливо смеется. Впервые за несколько месяцев! Есть еще порох в пороховницах!
Полчаса, час, полтора часа… Отлично. Все идет как надо. Значит, он не погиб для авиации. Значит, он может летать. И будет летать!
Но что это? Как ножом, полоснуло по левой ноге.
Это с непривычки… Превозмочь боль! Не дать ей овладеть собой!
Он чувствовал, как спина покрылась холодной, липкой испариной.
Вот уже и аэродром. Нужно сделать круг, зайти на посадку. А боль нарастает, становится невыносимой. Кажется, он теряет сознание.
Последнее усилие! Нихамин не оборачивается. Значит, он ничего не чувствует. Значит, все идет как надо…
В Чистополе рана на ноге открылась. Около пяти месяцев пришлось ходить на костылях.
«Неужели это конец? — спрашивал сам себя Любимов. — Неужели я больше никогда не поднимусь в небо?! — Он не мог забыть того ощущения, когда летел с Нихаминым. — Нет! Рана затянется, уйду на фронт. Только допустят ли к самолету? Тем более к истребителю!»
А сводки с фронта становились все тревожнее: шли бои на перевалах Кавказских гор. Гитлеровцы рвались к побережью.
Наконец Любимов в своем полку, среди боевых друзей-однополчан.
Павлов обнял Любимова.
— Как добрался, дружище?