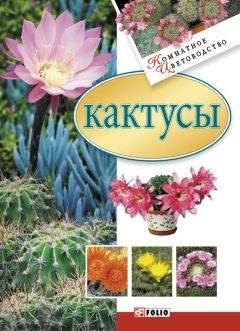— Итальянцы, кажется, говорят: «Увидеть Неаполь — и умереть…» Как это нелепо, Кето, да? Я лучше сказал бы…
— Видеть Батуми — и жить!
Она подхватила его слова, «освободила душеньку из чистилища». Да, так говорится в Чехии, когда одна и та же мысль вдруг приходит в голову двоим одновременно. Это выражение очень нравилось Кето, хотя она училась в советской школе и не очень ясно представляла себе чистилище… И потому, что здесь, на усеянном галькой пляже, как раз в это время было мало народу, Ондржей положил портфель и фрукты на пестрые камушки, раскрыл объятия старым, как мир, движением, и они стали целоваться, целоваться так, как это умеют делать двое молодых людей в прекрасный вечер.
Ведь людям всегда хочется жить. Но, может быть, никогда им так сильно не хотелось жить, как именно в эту волшебную и жестокую осень тридцать восьмого года, когда желтые дни и голубые ночи, полные огромных блестящих звезд, как бы показывали миллионам людей в разных концах земли, как прекрасен мир, как люди по своей собственной воле уродуют его и чего они лишатся, если начнут взаимное истребление. И, даже не сговариваясь, они ощущали совершенно одинаково эту подаренную им красоту расставания: и Станя — в Праге, и Нелла Гамзова — в деревенском домике, и Ондржей — в Грузии.
— Кето, когда мы увидимся?
Она стояла на перроне перед ночным поездом в своем нарядном черном платьице, помятом от объятий, лицо девушки белело, как роза.
— Теперь очередь за мной, — сказала она, поднимая на него свои прекрасные серьезные глаза. — Как только будет можно, я приеду в Тбилиси. Скорее всего, через неделю.
«А застанешь ли ты меня там?» — подумал Ондржей, но ничего не сказал.
Не сговариваясь, они не произнесли больше ни одного слова о войне. Люди стремились поймать хоть кусочек счастья и жили, жили, закрыв глаза, как будто никогда не должно было случиться то, чего все боялись и от чего все пытались отгородиться веселыми обыденными разговорами.
— Приезжай, — ответил Ондржей, улыбаясь девушке из окна вагона. — Пойдем вместе в цирк. Как тогда.
Поезд тронулся. Кето неподвижно стояла на перроне, вся в черном; только платье слегка приподнималось на груди да белело лицо, на котором чернели глаза, продолговатые, как на иконах. Потом все расплылось, стерлось, слилось, и поезд отошел от станции в безвестное будущее.
Старый Тифлис — это розовые каменные домики, сплошные деревянные галереи, резные, как кружево; он поднимается вверх на гору, как Вифлеем в «вертепе». Белые каменные здания в центре, как будто освещенные вспышкой магния, построены уже при Советской власти. Социализм очистил прекрасный восточный город от наносов грязи, провел водопровод, осветил электричеством, озеленил, привел в порядок крутые берега мутной Куры, превратил опасную свалку гниющих отбросов с тучами мух в красивую белую набережную под тенью пальм.
Тбилиси, бывший Тифлис, лежит в предгорьях Кавказа, величественного массива, девятью цепями гор связавшего Черное и Каспийское моря. Горный воздух пахнет озоном, как после электрического разряда. Прометеева искра вспыхивает в нем. Древний таинственный край овеян легендами и сказаниями. Говорят, что Кавказ был колыбелью человечества. Будто бы Прометей, прикованный потом богами к подножью Кавказских гор, принес людям огонь с неба. Он дал огонь кузнецам, чтобы они ковали доброе оружие на зверя и для защиты от врага, орудия труда, необходимые для жизни; художникам и ученым он дал огонь, чтобы они лучше видели; он принес огонь для очагов и факелы для путников. Но боги не хотели, чтобы люди стали равны им. И они жестоко покарали Прометея, приковав его к скале и послав к нему орла. Да что боги: царская Россия не хотела, чтобы рабочие стали равноправны с дворянами и князьями, с купцами и фабрикантами.
Вот средневековая твердыня Метехи над бледно-голубым серным источником в татарском квартале у шоссе, по которому в старину ездили в Персию, неподалеку от мечети, где поет муэдзин, напротив городских бань: старых кирпичных и построенных при Советской власти мраморных. Ныне пустой замок высится на скале как памятник старины.
Из окон цеха, порученного попечениям Ондржея, был виден каменный тбилисский цирк, похожий на гигантскую корону. Его крыша, выглядывающая из-за платанов фабричного сада, казалось, была близко-близко — рукой подать, но попробуйте добраться туда пешком! Пришлось бы идти вверх, вниз и снова вверх! Кавказская земля прогибается в этом месте на крутых берегах необузданной реки Куры, несущей свои мутные воды из Турции. Город Тбилиси стоит в котловине, и его дома с террасами, верандами и галереями, как везде на юге, взбираются вверх по склонам гор. Едучи на работу в переполненном трамвае, увешанном черными гроздьями армянских и грузинских мальчишек, Ондржей замечал, что многие из кривых улочек, мимо которых он проезжает, упираются в горный склон. Точь-в-точь как на Жижкове, каким он запомнился Ондржею с детских лет. Только здесь все несколько повыше. Можно ли сравнивать Жижковский холм и гору Давида! Земля и небо.
На горе Давида зеленеет сад вокруг белого дома с террасами — нового клуба, где танцуют и откуда так хорошо смотреть, сидя за стаканчиком вина, на раскинувшийся внизу сияющий огнями Тбилиси, который словно светится тысячами электрических глаз, — не так ли, Кето? Пьянящая южная толпа шумит под тамарисками на многолюдном проспекте Руставели; почти перпендикулярно к этому прекрасному белому проспекту театров, гостиниц и правительственных зданий светится до глубокой ночи линия фуникулера, ведущего на гору Давида. Петршинская канатная дорога по сравнению с ним — детская игрушка. В Чехии — Ондржей сейчас беспрестанно вспоминал родину, — в Чехии все было такое крохотное, как в карманном издании. Когда едешь на восток, земля растет, небо ширится, горизонт безгранично расступается — и предприятий и построек в необозримой Советской стране становится все больше и больше. Нельзя и сравнивать тбилисский каменный цирк с цирком из брезентовых полотнищ на площади против Дома инвалидов в Праге!
Грузины страстно любят цирк. Стоит ли говорить, что публику всюду привлекает возможность поглазеть на укрощенных львов, умных слонов, тюленей, играющих на свирели, на танцующих змей, забавных обезьян? Кто не засмеется над выходками клоуна? У кого не замирает дух при виде головоломных упражнений на высоко подвешенной трапеции и страшных сальто-мортале? Кого не привлекают гибкие акробаты, которые своим опасным искусством уподобляются полубогам? Кого не волнует атмосфера пыльного манежа, пропахшего хищниками и лошадьми? Никто ее так не ценит, как кавказцы, прирожденные наездники, бесстрашно скачущие по горным тропам. И кроме того, это древнее пристрастие к цирку, может быть, идет еще со времен гладиаторских игр. Ведь улицы, по которым Ондржей Урбан обычно ездит на шелкоткацкую фабрику, в политехнический институт, на футбол, в зоологический сад, таят под своим асфальтом древний-предревний, покрытый глубочайшими колеями перекресток мировых путей.
Однажды, вскоре после того как Ондржей с хорошей рекомендацией приехал из Ташкента в Тбилиси (из-за ташкентского тропического климата, замечательно способствующего росту хлопка, но опасного для здоровья уроженца «картофельного края»), в начале пребывания в Грузии, — Ондржей тогда еще не привык к здешнему образу жизни, у него не было друзей, и он не знал, куда девать время по воскресеньям, — он осматривал город и встретил грузинские похороны. В открытом, высоко поднятом гробу торжественно несли старика, несли почти стоймя, так что казалось, будто покойник движется сам. Ондржей вошел с процессией в церковь, где волнами плыл упоительный дым ладана. Перед алтарем стояли закутанные в шали стройные старухи в черном, с крючковатыми носами, почти касающимися подбородка; они осеняли себя широким православным крестом и кланялись чуть не до земли, разгибались и снова стояли совершенно прямо. Священник, старый, сухонький, невероятно маленький, горбился под тяжестью шитого серебром облачения, под бременем золотой митры, украшенной драгоценными каменьями. Ондржею показалось, что он попал в учебник истории и что книга захлопнулась за ним, — настолько этот мир был иным. Древняя Византия смотрела с икон миндалевидными глазами узколицых святых на чешского рабочего, привыкшего стоять за станком с электрическим мотором. А ну их, и глядеть-то страшно! Ондржей вышел из золоченой каморки на дневной свет, а вслед ему неслись православные церковные песнопения и запах ладана; у церковки, окруженной кипарисами, была высокая тонкая колоколенка, точь-в-точь такая же, как магометанский минарет, откуда кричит муэдзин в татарском квартале. Столько древних народов уже прошло через Тбилиси! Изрядное время, около трехсот лет, пробыли здесь арабы, и не известно еще, не подмешали ли они капельку восточного обаяния в кровь благородного грузинского народа. Первое время Ондржей ходил, потеряв голову от красоты обитателей юга. Какие здесь женщины! Стройные и гордые, потому что носили в горы тяжести на темени и оттого должны были держаться прямо; работница идет величаво, будто королева; как умеет грузинка посмотреть своими дивными, загадочными, немного грустными глазами! Когда в Закавказье вторглись монгольские орды Чингисхана, его воины, говорят, избивали цепами всех грузинских младенцев. И глаза грузинок словно таят в тени ресниц тысячелетнюю скорбь. Нелепость. Нынешние грузинки веселы, как вино. Не так ли, Кето?