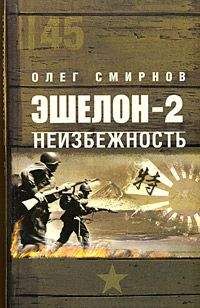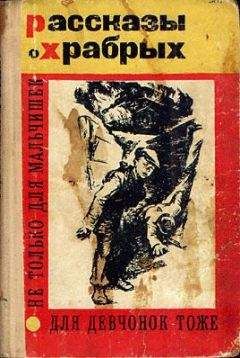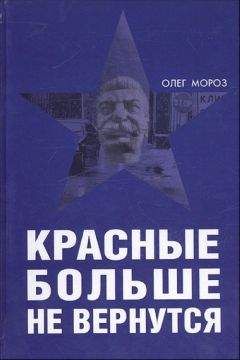Чем я лучше других?
Тут вопрос: за что умирать? Как за что? Мы будем воевать с агрессором, который разбойничает в Китае, Корее, Вьетнаме, Бирме, Малайе, на Филиппинах и еще в скольких-то странах и который опасен для нашей собственной страны. Эта война — неизбежность. Рассуждаю "в лоб"? Возможно. Так приучен. Но по существу-то верно рассуждаю! Ну, а война есть война. Кому-нибудь не повезет. И его оплачут родные и близкие. Мне тоже может не повезти. Но кто меня оплачет? Эрыа ничего не узнает, отца-матери нет. А однополчане слез не льют, залп над могилой — и точка. Да слезами ведь и не поможешь, и вообще не мужское это занятие — лить слезы. Женщины плачут, дети. А еще клен плачет. На юге, на Дону, татарского клена в достатке. Так вот, с черешков кленовых листьев перед дождем капают «слезы». Дерево за несколько часов до ненастья оповещает о нем человека. Как барометр. Лишь приглядись повнимательней к листочкам у твоего окна…
В монгольской степи не приглядишься. Во-первых, нет и намека на клен или какое-нибудь иное дерево. Во-вторых, нет и намека на возможность дождей. Сушь, сушь. Между прочим, комбат предупреждает нас, ротных: осторожней со спичками, с непотушенными цигарками, бросишь в высохшую траву — пойдет пал, то есть степной пожар. Я предостерегаю своих солдат, а сам думаю: пал может пойти и от искры из любой выхлопной трубы, техникито во-оп сколько понагнали — скопище! Степь нашпигована машинами, как сало чесноком. Когда-то мама в Ростов-городе делала такое сало. Невероятно вкусно, и невероятно давно это было…
Вслушался в солдатские голоса. Говорок Яши Вострикова:
— Война нам светит какая? Освободительная!
— Точняк, точняк, — отвечает Кулагин.
— Большого ума не треба, чтоб уразуметь это, — ворчливо вмешался старшина Колбаковскпй.
— Легче идти в бой, ежель сознаешь: за правду, за добро подставляешься под пули, — сказал Свиридов. — Надо, чтоб и тебе хорошо жилось, и всякому другому заграничному человеку. Вон на западе мы поляков освобождали, да и самих немцев, считай, освободили от ихнего Гитлера!
— Иху фюреру бенц. — Это Логачеев.
— И здеся освободим кого положено. — Это Головастиков. — Такой будет регламент: нету поработителей и порабощенных, все равные нации… Законно?
Вадик Нестеров:
— Небольшое дополнение… Чтоб после войны было равенство и внутри каждого народа: ни угнетателей, ни угнетенных!
— А в Советском Союзе разве не так? — спрашивает парторг Симоненко, бывший депутат сельсовета, а ныне командир отделения, сержант.
— Я толкую о прочих государствах… Чтоб по всей земле так было и не иначе!
Кто-то, судя по акценту — Погосян, тихонечко замечает:
— Везде так будет… Лишь бы люди-человекн очистились от всего дурного… Войну переплывешь, выберешься на тот берег очпгцениым, отмытым… Еще немного проплыть…
Мой испытанный ординарец Драчев:
— Свой долг сполнпм… Что мы, не советского роду-племени?
Парторг Симонепко одобрительно:
— Идейно зрело, Миша!
— Я такой. — Драчев кивает, важничая.
Разговор закапчивает старшина Колбаковскип, несколько прозаически:
— А раз долг сполняете, то напоминаю всем и каждому: должны беречь на марше боевое и вещевое имущество! Патрона не потерять, пуговицы не потерять.
Как говорится, старшина подбил бабки…
А пить-то хочется. Несколько глотков не утихомирили жажды.
Напиться бы от пуза из голубого Керулена! Да отдаляемся и отдаляемся от него. Выпил бы я водки вместо воды? Ни за что.
А Толя Кулагин с разномастными глазами выпил бы. Любопытно, как смотрели бы его глаза — правый, серый, и левый, карий, какой нахально и какой виновато? А не отдаляюсь ли я от солдат? Лежу один, молчком, рота сама по себе, непорядок это. Думай не о своей персоне, а о роте. Не отделяйся — не будешь и отдаляться.
Встаю, подхожу к солдатам — они лежат кучно, словно в степи не хватает места. Вижу: Геворк Погосян наматывает портянку неправильно, со складками, при марше натрет ступню. Говорю:
— Перемотай. Чтоб ровненько, гладенько было, иначе обезножеть.
Филипп Головастиков с непокрытой головой, Микола Симонеико пьет из фляги затяжными, как будто без пауз, глотками.
Говорю:
— Пилоток не снимать. Может хватить солнечный удар. Пить не торопясь, мелкими глотками, а перед тем надобно прополаскивать рот…
Мои руководящие советы выполняются охотно, незамедлительно: Погосян перематывает портянку, Головастиков натягивает пилотку до ушей, Симоиенко полощет рот, неспешно глотает воду и завинчивает фляжку.
— А гимнастерки можно расстегнуть, пусть будет вентиляция. — Я улыбаюсь, бойцы улыбаются. Вот и славно!
Меня тронули за локоть. Я обернулся: посыльный от командира батальона. В первую секунду подмывало отчитать его: положено сказать: "Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?" — а не лапать офицера, но посыльный — пацан пз семнадцатилетних, большеротый, лопоухий, с цыплячьим пушком над верхней губой, в слинявших обмотках, и я удерживаюсь:
— Что тебе?
— Велено вам до комбата подаваться…
Ах ты, безусая гражданка: велено, подаваться. И вновь удерживаюсь от замечания, хотя, в сущности, и напрасно: молодых положено учить. Однако настрой таков, что замечания предпочтительно попридержать. Настрой мирный, ласковый, благодушный, сколько он продержится? Не гони его преждевременно, он и сам испарится. Идя за посыльным — худенькие плечи, слабая шея, и что они все такие заморыши, эти семнадцатилетние? — гадаю, для чего понадобился комбату. Потерпи пару минут — узнаешь. А заморенные эти мальчики потому, что четыре года сидели на скуднейшем пайке, лишь в армии стали наедаться, понимать надо.
В Белоруссии, что ли, видел из теплушки: тощая корова впряжена в плуг, однорукий мужик в солдатской гимнастерке тянет за недоуздок, три женщины в обносках копошатся у плуга. А на Смоленщине и того хлестче: в плуг впряжены женщины, и женщины же направляют его — огороды вскапывают под картошку… Вот как война ударила по пароду…
Комбат сказал нам, ротным:
— Припять триста метров правее, там расположится батальон.
До полуночи подойдут части первого эшелона, а в два часа нольноль минут марш. Учтите особенности ночного марша. Чтоб никто не отстал, не потерялся… Перед ужином, в семнадцать часов, митинг, посвященный присвоению товарищу Сталину высшего воинского звания — генералиссимуса. Остальное время свободное, личный состав может отдыхать…
Так, ясненько. Предстоит ночной марш. Без солнца, без жары идти легче. Однако спать ночью, к сожалению, тянет зверски.
Вздремнуть бы солдатам днем, после обеда, но опять же — на солнцепеке разве отдохнешь как следует?
Что еще скажет капитан? Ничего не говорит. Его обожженное в танковом десанте лицо неподвижно, глаза без ресниц, какие-то оголенные, помаргивают, будто дают знать: всё, мол, расходитесь.
И мы расходимся — каждый к своей роте.
Приняли на триста метров правее дороги — те же потрескавшиеся солончаки, перемежаемые ковыльником, никаких ориентиров. Оружие составили в козлы, накинули на козлы шипели и плащ-палатки — хоть малость в тени, хоть башку укроешь. Разделись до нижних рубах и маек — у старшины Колбаковского бесподобная динамовская майка облегает недурственный животик, — разулись, обернули портянки вокруг голенищ; шибануло вонюче, но суховей и солнце моментально высушили портяночки, и благовония не стало. А полынью пахло, хотя и не шибко. Шараф Рахматуллаев пошутил:
— Курорт продолжается. Загорали в вагоне, загораем в степи.
Разговорился молчун. Погоди, будет тебе курорт, когда десятки длиннючих километров лягут под ноги. Ну, а покуда, впрочем, лежи отдыхай, набирайся силенок. Рубай на здоровье: обед приближается. Но, честно говоря, жажда убивает аппетит. Когда полевые кухни подвезли пшенный супец и перловую кашку — здрасьте, старые знакомцы! — солдаты без всякого энтузиазма ворочали ложками; кое-кто хлебнул перед едой водички, будто водочки, для аппетиту, однако это мало подействовало. Жара, духота, сухость прямо-таки угнетают…
Отобедав, я достал из планшета свой блокнотик. Записываю:
"Человек без совести хуже, чем без разума. Безумный человек совершает поступки, не осознавая, а тот, что без совести, сознательно и этим страшен. Как появляются бессовестные люди?!" Гениальные мыслишки? Пусть не очень, по это для себя. Дневника я не веду, офицерам запрещено, дабы дневник не попал к врагу, однако в блокнотике не дневниковые записи, никаких военных сведений — общие мысли и рассуждения, вряд ли кому нужные, кроме меня.
Писал авторучкой (карандаш запропастился), суховей швырялся песочком, как бы посыпал написанное. В старину специально посыпали песком, чтоб чернила поскорей подсыхали? Вроде бы так. Спросить бы у Вострикова либо Нестерова, книгочеи, может, вычитали где-нибудь и про это? Да неудобно: солдаты знают, офицер не знает, а еще командир роты. И я ни о чем не спросил Вострикова с Нестеровым, лишь осмотрел их, шелестящих газетами. Мальчики сняли и шаровары, остались в трусах. А почему бы и нет, ежели ротный старшина товарищ Колбаковский самолично скинул шаровары и, поскольку трусов он принципиально по признает, остался в кальсонах с тесемочками. Динамовская майка с подштанниками — смешно.