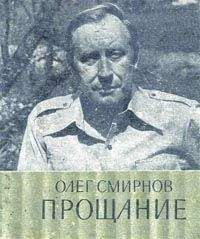— Скворушка!
Он вздрогнул, прислушался. И услыхал:
— Игорь!
Он сидел, не шелохнувшись. Голосов больше не было. Но они только что были! Первый — Жени, второй — Иры. Он докурил — в рукав, зашагал по козьей тропе, и в конце ее опять окликнули из кустов:
— Скворушка!
И погодя:
— Игорь!
* * *
… Поезд Новороссийск — Москва прибывал в Краснодар около полуночи, здесь к нему подцепляли три краснодарских вагона. То да се, и посадка в эти вагоны начиналась за десяток минут до отправления. Что тут творилось! Оберегая присмиревшую, Иру, Игорь стоически принимал на себя удары чемоданных углов и локтей. Родители Игоря жались в хвосте очереди, тесть стоял поодаль с молчаливой тещей и, забавляясь, пытался перекричать общий гвалт: «Пропустите женщину с ребенком!» — имел в виду Иру с мужем; Женя прикрывала Игоря с тыла, пробиваясь за ним, кричала: «Пограничника уважьте!» — какое там, никто никого и ничего не видел, глаза белые. Но в вагоне, когда пассажиры разобрались со своими плацкартными и «сидячими» местами и распихали по полкам багаж, распаренные и умиротворенные, словно устыдившиеся того, какими были полчаса назад, они под стук колес наперебой стали угощать Игоря водкой, портвейном, домашней колбасой, пирогами, крутыми яйцами: «Товарищ пограничник, отведайте, уважьте». Увы, он не употреблял спиртного.
Утром он выбегал на каждой остановке, приносил Ире то жареную курицу, то яблоки с грушами, то сметану, то арбуз с дыней. Ира округляла глаза, притворно пугалась: «Куда это все? И куда девать домашнюю снедь?» Хотя было очевидно: ей приятны заботы Игоря и боится она одного, чтоб он не отстал от поезда. А Игоря распирало от счастья, от желания сделать жене что-нибудь приятное. Он не спускал с нее взгляда, старался не отходить ни на шаг, ненароком целовал, легонько обнимал, чтоб только почувствовать: она здесь, рядом, его. Едва отлучившись на пристанционный базарчик или в вагон-ресторан за лимонадом, тут же спешил назад, к ней. И она глядела на него не отрываясь. За окном мелькали станции с базарными рядами под навесом, станицы с белеными хатками в садах и виноградниках; кружились, отбегая, убранные пшеничные и неубранные кукурузные поля, шлях петлял, курился воронками пыли, въедливая черноземная пыль была на фруктовых деревьях и дичках, оседала на полуторки и лица колхозниц под белыми платочками; степь была неоглядна, и всю ее, из края в край, просвечивало августовское солнце, не запятнанное ни облачком. Родная земля! Он любил ее сейчас больше, чем когда бы то ни было, возможно, оттого, что любил сейчас женщину.
* * *
Женя, когда приехала на заставу, говорила:
— Попала я в Москву-матушку, и она отравила меня. Как отравила? Да так…
Они с Брегвадзе сидели на лавочке в беседке-курилке и разговаривали. Скворцов, примостившись неподалеку на крылечке казармы, косился на них: чего Женька расселась в курилке, места подходящего для своих диалогов-монологов не нашли? Слышно было, как Брегвадзе, волнуясь, цокая и придыхая, убеждал:
— У нас в Грузии жену уважают! Не верьте, Женя, если вас уверяют, что у грузин жена трудится, а муж вино потягивает…
— Я не верю этому, Васико, — отвечала Женя и посматривала на Скворцова — издалека, завораживающим взглядом.
— И правильно, Женя! Есть, конечно, отдельные мужья, которые плюют на своих жен. Но в принципе муж-грузин — хороший муж…
— Я верю в это, Васико! — И опять глядит издалека, через двор, на Скворцова.
* * *
Плакатик, наклеенный на заборе:
«Всякий, кто укроет бандита-партизана, будет приговорен к смертной казни. Кто своевременно проинформирует комендатуру о появлении бандитов, будет вознагражден центнером пшеницы».
* * *
На поляне выстроились квадратом партизаны. В центре Скворцов высоким, звенящим голосом читал по бумажке, фразу за фразой, партизанскую клятву, и строй, фразу за фразой, многоголосо повторял за ним.
— "Вступая в партизанский отряд народных мстителей имени Владимира Ильича Ленина, торжественно клянусь быть достойным этой чести. Будучи советским патриотом, клянусь во имя Родины и Коммунистической партии быть в бою смелым, стойким, не отступать ни шагу назад без приказа командования, в повседневном быту быть дисциплинированным и скромным, мужественно переносить тяготы и лишения боевой партизанской жизни. Клянусь до последней капли крови сражаться против ненавистного врага, пока он не будет изгнан из пределов Союза Советских Социалистических Республик. Если лее я хоть в чем-то нарушу свою клятву, пусть меня покарает презрение и гнев товарищей по оружию…"
Скворцов читал медленно, строй повторял за ним еще медленней, отрывочно, вразнобой, и Скворцов ждал, когда смолкнут приотставшие голоса, чтобы читать дальше. Слова клятвы точные и верные. Текст одобрен Военным советом, который учредили приказом по отряду: Скворцов, Емельянов, Новожилов, Федорук, Лобода — пять человек на сорок, начальства многовато, но отряд растет и будет расти. На Военный совет пригласили и доктора-филолога, он пустился критиковать стиль: «Будучи… быть — нехорошо…» Скворцов выслушал и его, прихлопнул ладонями по сколоченному из жердей столику. Что, как известно, означало: все, теперь послушайте, что я скажу. И сказал: «Текст хороший. Предлагаю одобрить. Кто „за“?» Весь совет был «за»…
Скворцов читал, и блики бегали по лицам, перемежаемые тенями. И он подумал: так вот легли на лица пограничников тени будущих боев и отсветы будущих пожаров. Кто остался в живых из стоявших тогда перед ним сорока человек? Стояли. Ныне лежат. Во сырой земле…
Группа уходила в сумерках, остававшиеся провожали ее взглядами, а некоторые дошли с ней до просеки. Шла до просеки и Лида, то нагоняя Скворцова, то отставая, и все время стараясь заглянуть ему в лицо. Он поворачивался к ней — ему казалось, что она хочет что-то сказать по делу, но она молчала, и Скворцов прибавлял шагу. У просеки он сказал — не ей, а всем провожавшим:
— Идите назад.
Тут она подошла к нему близко, почти вплотную:
— Успеха, Игорь Петрович! Возвращайтесь. Буду ждать.
— Спасибо, — не без удивления ответил он.
И пока вышагивал по просеке, не переставал удивляться: с чего это она? Персональное пожелание: успеха вам, Игорь Петрович, возвращайтесь, персональное обещание: буду ждать. А потом, припомнив прежние ее слова и взгляды, которым не придавал значения, сообразил: симпатизирует ему или, скажем, тянется к нему по-женски, вот оно что! И как-то кольнуло: это к нему-то тянуться, к нему, потерявшему самых дорогих на свете женщин… Дело предстояло боевое. Оно стучалось с первых дней партизанщины, но Скворцов медлил с ним. А что же медлить? Оружие-то потребно, позарез, без оружия какие они партизаны? Да не то что медлил, просто хотелось тщательней проработать операцию, много времени ушло на разведку, на подбор и подготовку людей, — состав группы обсудили на Военном совете. Ее формировал Скворцов. По принципу: кого лучше знаю. А лучше знал он тех, кто был с ним в сторожке у Тышкевичей. Плюс Емельянов и санитар, санитар был настоящий, из окрестной больницы, спец в медицине небольшой, но тем не менее… А Емельянов — партполитобеспечение, старший политрук настоял на собственной кандидатуре. Рвался и Новожилов, однако кто-то ж должен остаться на хозяйстве. После совета Лобода, довольный, сказал Скворцову:
— Товарищ командир отряда, повоюем? У пограничников как принято? В бой первым, из боя последним! А мы ж с вами пограничники!
Когда-то на границе служба для Скворцова была как нескончаемый поход по дозорным тропам. Нынче тропы партизанские. Сколько отмерено ходить по ним? Вряд ли они будут нескончаемы. Снова вопреки желанию подумалось о Лиде. Милая девочка, как подросток, худенькая, голенастая, острые мальчишечьи коленки в ссадинах, движения резкие, даже вертлявые. Прибилась к отряду в числе первых. Комсомолка, работала в сберкассе, отца мобилизовали двадцать второго июня, мать назавтра эвакуировалась на восток, а Лида опоздала к эшелону и с вокзала прямо в лес, спустя два часа в городок вступили немцы, на час раньше — батальон оуновцев, резня, расстрелы, грабежи магазинов и складов. Одна Лида осталась, без родных, вот и тянется к кому-то. Может, совсем и не по-женски это. Может, просто как к старшему, как к командиру. Ведь командир — отец для подчиненных. Ну, отец, перестань отвлекаться.
— Честные люди нужны даже гадам. Для облегчения души! Гад ведет доверительные разговоры с честным, порядочным человеком, и ему легче становится: не сплошь подлецы вкруговую. Честным все доверяют, не так, Будыкин?
— Не так, товарищ комиссар! Сволочные никому не доверяют!
Вот и другие отвлекаются. Философию развели не ко времени. Как поделикатней вразумить старшего политрука?
— Товарищи, еще раз напоминаю: при движении надо сохранять тишину…
И Емельянов с Будыкиным умолкли. А Лобода небрежно обронил: