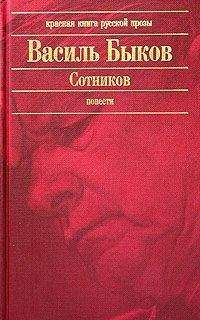Он взял ее вещи и задумался.
— Ты, сынок, на машине за мной приехал?
— Да, на машине.
— Степана Чеботарева тоже на машине возят. У него и своя есть. А у тебя какая?
— У меня та, что за пятак возит.
Мать ничего не поняла, ждала, куда он ее поведет.
— Мне ведь говорили, сынок, что ты тут большой начальник. Повыше Степана.
— Да, начальник. Куда кого послать — самому сбегать!
Он разговаривал с ней, шутил, а сам все время думал:
«Что делать? Звонить по гостиницам — напрасный труд. Везти к Мамонтовым? Так они еще не вернулись с юга. Может, попросить Прахова? Откажет. Обязательно найдет причину».
Не хотел он звонить Елене, а пришлось. Набрал номер и долго ждал. Громкие длинные гудки повторялись — никто не подходил к телефону. Неужели и ее нет дома? Наконец трубку сняли:
— Я слушаю.
— Извините, Елена. Это я, Шорников.
— Что случилось?
— Ничего. Но я вынужден вам звонить. Мать в гости приехала.
— Господи, а я перепугалась! Могли бы и не звонить, а везти прямо ко мне. У меня мама в больнице, есть где расположиться.
— Спасибо.
— Приезжайте, я жду.
Пока они добирались, на столе уже стоял горячий чайник; печенье на тарелочке, клубничный джем. Елена помогла старушке раздеться, показала, где можно вымыть руки, усадила за стол.
Старуха смотрит по сторонам, ничего не понимает. И как только Елена вышла на кухню, сказала:
— Сынок… Хочу я у тебя что-то спросить… Что это у тебя, вторая жёнка?
— Нет, мама, просто знакомая. Вместе работаем.
— Приветливая. И красивая. — Помолчала немного и опять спросила: — А почему же она у тебя живет, если вы не обвенчаны?
— Это не моя, а ее квартира.
— Ну и мудрено у тебя все получается! — она начала развязывать веревку, которой был обмотан ее чемодан, достала яйца, сало, курицу, завернутую в полотенце. Он заметил, что сало толстое, — наверное, самый лучший кусок привезла.
— Зачем ты, мама? Оставила бы для себя.
— Хватит и с меня. Такой удачной свиньи у нас никогда не было. Мало ела, а полнела, как барыня.
Она говорила и говорила про жизнь в далекой, затерявшейся среди болот и лесов деревушке, которую он давно покинул. А он слушал ее и вспоминал тот забытый богом уголок земли, что жил по каким-то своим неписаным законам, и было так много неповторимого, такого, что осталось еще от давно прошедших времен. От станции к Залужью тянулась через леса одна-единственная дорога. Когда, бывало, идешь по ней весной или летом, чибисы вьются над тобой и печально кричат, словно предупреждают о чем-то или умоляют их избавить от этой тоски. Но воздух чистый до синевы, в летние дни он подрагивает, когда прогреется в полдень, особенно в пору цветения ржи. На перелесках цветов всяких — так и хочется повалиться на траву, и разбросить руки, и сказать земле-матушке спасибо за все. Там легко дышится и далеко смотрится. Если подвода едет по дороге, увидишь ее за много верст. Но когда зарядят дожди, грусть-тоска такая, хоть помирай. И потом долго над болотами будут висеть туманы, ни деревень соседних, ни синего леса на горизонте не видно, а дрова в печи не горят, только сипят. И чибисы словно сквозь землю проваливаются.
— Ты меня совсем не слушаешь, сынок.
— Слушаю, мама.
Она долго и с каким-то сожалением смотрит на него:
— И у тебя седина рано появилась, как когда-то у отца… Ты помнишь своего отца?
Как не помнить! Отец умер давно, когда матери не было и сорока. Она выглядела молодо, и за нее сватались вдовцы, но она осталась одинокой — ради детей.
— Знаю я, чего они сватаются. Пропьют корову, а потом живи как хочешь.
Отец Шорникова не был хорошим хозяином: он и выпивал, и с удочкой посидеть любил или сходить в лес за грибами. Поэтому мать сама вела хозяйство.
Отец умел читать и писать, мать ставила крестики, если ей приходилось расписываться. Из сестер Шорникова никто не оканчивал даже начальной школы, шли работать. Мать считала, что и сына не нужно учить, чтобы не отбился далеко от матери. Но потом махнула рукой: босяк, мол, пусть учится. Из техникума он стал высылать ей часть своей стипендии, а сам жил на приработки — пилил дрова с ребятами, разгружал вагоны с углем на станции, случалось — и негашеную известь, после чего сильно першило в горле. Мать была довольна, начинала жалеть, что дочки не учились. А потом война. Пришли немцы и съели ее корову, двух младших дочерей угнали на работы в Германию. После войны старшие дочери бросили деревню и уехали на юг, на шахты, — осталась одна.
— Что же не спросишь, сынок, как мне живется?
— Я и так знаю, мама.
Она заплакала.
— Все говорят: вырастила сына, вывела в люди, а какое тебе счастье от этого? Он там чуть ли не в хоромах царских живет, а ты зимой хворост на своих плечах из лесу таскаешь. Испокон ведь веков считалось, где сын, там и его матка. Разве бы я тебе помешала? Хозяйство бы ваше вела.
— Мама, да у меня все хозяйство — вот эта шинель на мне да дорожный чемодан — и все! И за всю свою службу не имел еще ни одной квартиры.
Она только тяжело вздохнула.
Посидели, поговорили, потом Шорников и Елена уехали на работу, а гостью оставили дома.
Елена объяснила, где для нее обед, но она так и не дотронулась ни до чего до вечера. К ужину Николай принес бутылку «Столичной» — красное вино в деревне называли бурдой, и мать его не пила.
— Я тут у вас целый день просидела как в тюрьме.
— А вы бы на улицу вышли, погуляли, — сказала Елена.
— Боялась, что дверь захлопнется, не войду потом. Да и заблужусь. Тут у вас все двери одинаковы…
Она пила и не пьянела. Она была уже в том возрасте, до которого если уж дожил человек, то становится твердым, ничто его не берет.
Раньше мать любила петь. Особенно на жнивье. И такие песни, за которые отец поругивал ее. И сейчас глаза ее блестели, но, видимо, она стеснялась, ждала приглашения.
— Может, споем, мама?
— Споем. — Она взглянула на Елену: как, мол, отнесется к этому хозяйка?
— Очень прошу вас! — сказала Елена. — Не стесняйтесь.
Мать подперла рукой подбородок, склонила седую голову, покрытую черной косынкой, и запела:
В том саду, при долине,
Громко пел соловей.
А я, мальчик, на чужбине,
Далеко от людей…
Позабыт-позаброшен…
Он начал ей подпевать, и по ее лицу покатились слезы, она вытирала их белым ситцевым платком, который мяла в сухих корявых пальцах.
Ой, помру я, помру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
— Мама!
Но она уже не слушала его. Она решила обязательно пропеть до конца эту песню, которую чаще всего пели за столом его деды и прадеды.
Ой, никто не узнает
И никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет.
Елена сидела молча. Она чего-то испугалась — видимо, для нее это все было слишком ново и ошеломляло.
— Я еще никогда не слышала, чтобы люди так изливали душу в песне, — сказала она. — Наверное, вам правда горько живется.
— Было и горше, доченька!
Он налил в стаканы еще водки, но мать отстранила свой:
— Не хочу, сынок. Не пошло что-то, колом в горле стало.
Он задумался.
— Что ты загрустил, Коля?
— Да так.
— Хотела я тебе один свой сон рассказать. Вздремнула днем на диване, и приснился.
— Ну, расскажи.
— Так вот… Зашла будто я в какие-то дремучие болота и провалилась, стало меня засасывать. Я кричу, зову на помощь, а никто не откликается, никто мне рученьки не подаст. А кругом все начало гореть… К чему бы это?
— К морозу, наверное.
— Может, и к морозу. А тебе страшные сны снятся, сынок?
— Снятся.
— Что же тебе снится?
— Как танки горят…
Мать посмотрела на него так, как матери смотрят на своего ребенка, когда он тяжело заболел, но с улыбкой сказала:
— Когда я была маленькой, мне снились только цветы. Васильки во ржи. Я их рву и плету венок.
— Пусть они и теперь тебе снятся.
— Нет, теперь не приснятся. Много воды утекло! Ты помнишь, как ходил на мельницу молоть очистки картофельные?
— Помню. И как ты потом лепешек напекла. И как спросила, сказал ли я мельнику спасибо.
— А я-то думала, что ты все позабыл! Понаговорили бабы всякой всячины: мол, там они, в Москве, мед с медом едят и медом закусывают. — Глаза у нее усталые, сосредоточенные и наивные, но и мудрые, они каким-то материнским чутьем угадывают многое, понимают, как ее сыну живется.
— Что-нибудь споешь еще, мама?
— Нет.
…Она погостила несколько дней, потом сказала:
— Купил бы ты мне, сынок, билет. Пора уезжать. Получишь свою квартиру, тогда напишешь…