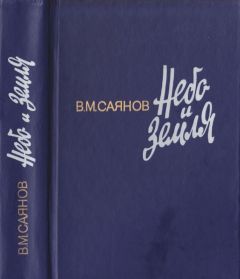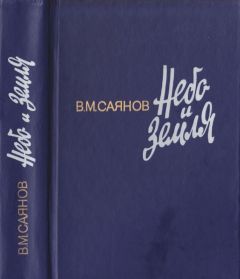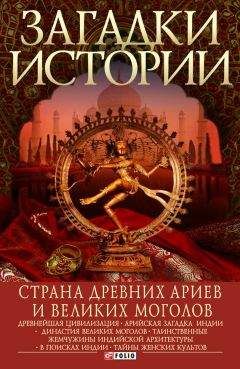— Ви-и-ка…
Бакас погрозил ему пальцем, тем самым, которым указывал недавно на выбранные им жертвы, и засмеялся.
— Подойди-ка, подойди поближе, Павлакис! — Вдруг судорога пробежала по его лицу. — Выключи патефон! — в бешенстве закричал он жене.
— Опять на тебя нашло?
— Выключи! Выключи! Выключи!..
Бакас бился в истерике, у него тряслись руки, голова.
— Хорошо, хорошо. Успокойся, — сказала перепуганная Фани.
Она выключила патефон и, закрыв дверь, продолжала одеваться, напевая что-то себе под нос.
Бакас откинул голову к стене, и лицо его стало опять бледным, безжизненным.
Павлакис выбежал в переулок. Он остановился перед маленьким домиком и стал царапать вилкой по воротам.
Бакас следил за ним. Ну и шалун! Все время крутится возле чужих дверей. Так, теперь он пытается забраться на скамейку! Вот непоседа! Вот егоза!
Над головкой мальчика свешивался плющ, который обвил побеленную стену дома и пустил бесчисленное множество корешков в ее трещины. С тротуара не было видно даже выцветшей черепицы на крыше, плющ закрывал весь дом.
Малыш боялся этого плюща. Его пугали, что в нем среди листьев живет змея. И теперь, наверно, Павлакис старался ее отыскать. Он тщательно осматривал зеленую шапку, полукругом свисавшую над ним. Но змея пряталась, конечно, в самой гуще листьев, куда не проникало солнце, и взгляд мальчика выражал испуг…
Плющ был диким. Летом, когда рядом разрасталась красивая жимолость, благоухали жасмин и сирень, он не завидовал им. «Они задаются, как глупые цикады, но в первый же холодный день исчезнут их аромат и прелесть, — думал он, с гордостью взирая на свою густую листву, презиравшую зиму. — У них век короткий, а я вечный».
Павлакис залез в канавку, прорытую во дворе, и принялся выкапывать цветы из жестяных банок, выстроившихся в ряд. Тут бабушка Мосхула услышала возню в канаве.
В это время она сидела обычно возле дома на скамейке, сгорбившись, сложив на коленях руки. Голова ее, повязанная платком, склонялась на одно плечо. Она не отрываясь смотрела на гвоздики, но не видела их. Бабушка Мосхула давно уж ослепла и могла теперь отличить только день от ночи.
— Опять ты здесь, постреленок? — добродушно заворчала она. — Оставь в покое цветы! За что ты, чертенок, их мучаешь?
— Момоннка! — закричал малыш.
— Сейчас Мимис занят. Потом…
— Момоника!
Павлакис хотел попросить у Мимиса, своего друга, губную гармонику. Утром Мимис дал ему поиграть на ней, и малыш своей музыкой и криком переполошил всех соседей. До сих пор Павлакис не мог забыть о гармонике.
Он вскарабкался на порог и попытался открыть дверь.
— Ну и чертенок! Ну и чертенок!..
* * *
В комнате Мимис, склонившись над столом, печатал листовки на самодельном гектографе. Солнце проникало сквозь закрытые ставни. Пучки лучей пробивались в каждую щелочку; солнечный свет золотил убогую мебель, покоробившийся деревянный пол, оживлял бледное лицо юноши.
Кровать с бронзовыми шишками стояла у стены, рядом с ней шкаф, против окон полочка с аккуратно расставленной посудой, застеленная чистой цветной бумагой, по краю которой был вырезан для красоты орнамент. Зеркало, вставленное в шкаф, равнодушно отражало бедное убранство комнаты.
Даже теперь, лишившись зрения, бабушка Мосхула поддерживала порядок в доме. С раннего утра хлопотала она, мела пол, вытирала пыль, ощупью проверяла, не сдвинулись ли с места стулья. Когда она не справлялась сама с какой-нибудь работой, то звала на помощь свою соседку, мать Павлакиса. Старушка держала кур и ухаживала за ними.
Бабушка Мосхула жила вдвоем со своим внуком Мимисом. Она считала, что жив ее сын, богатырь Черный, который во время малоазиатской катастрофы вынес ее на спине из горящего дома. Чтобы не отравлять несчастной последние годы жизни, ей сказали, что Черного угнали в Германию.
Старушка надеялась, что смерть пощадит ее до конца войны. Она ждала сына… Пусть сначала вернется он целым и невредимым, она прижмется лицом к его груди, вдохнет знакомый запах его тела, а там… там видно будет. Она до сих пор берегла у себя под кроватью высокие резиновые сапоги, в которых он ходил на работу…
Мимис устал. Последнее время по вечерам его мучил жар, а кроме того, у него онемела рука, ведь несколько часов подряд он работал не отрываясь. Сейчас он вылил из бутылки немного анилиновых чернил и стал подновлять поблекшие буквы оригинала.
Чтобы отдохнуть капельку, он разогнул спину. Ему надо еще выкроить время починить сломанный стул. Завтра рано утром здесь соберутся члены бюро местной организации Сопротивления, и всех их надо как-то рассадить.
Юноша задумался. На завтрашнем заседании он непременно попросит, чтобы его послали в горы к партизанам. Он объяснит причину своей просьбы. После расстрела отца он не может больше жить в городе. Хотя он и старается держаться, горе сломило его. Конечно, он целиком поглощен революционной борьбой, своей работой и повседневными заботами. Но ведь иногда он остается наедине с самим собой в комнате, где незримо витает тень расстрелянного отца. Куда запрятать его одежду, висящую в шкафу, его бритву или вырезки из газет, аккуратно наклеенные в ученические тетради? Как прикоснуться к этим реликвиям? Разве можно жить в окружении этих вещей? Наверно, другому на его месте удалось бы превозмочь свое горе. Да, мужчина должен быть более сильным, суровым, должен уметь сносить обрушивающиеся на него удары — иначе какой же он мужчина? Но возможно, из-за обостренной впечатлительности, отличавшей его с детства, или из-за горячей любви к отцу он до сих пор рыдает по ночам, точно ребенок, боясь, как бы не услышала бабушка. Ему надо уехать, необходимо срочно уехать. Завтра он попросит Сарантиса при первой возможности отправить его к партизанам.
В горах все иначе. Дни и ночи он будет с товарищами, все время в движении; там трудные условия, физическая усталость, ежедневные бои — все это закаляет людей, вселяет мужество в слабые души. В горах он, конечно, избавится от грызущей его тоски.
Пучки солнечных лучей венчали витавшую в комнате тень расстрелянного. Подперев руками голову, Мимис с грустью думал о влекущей его дальней дороге… Матери он не помнил. Отец был с ним всегда: во время детских игр, болезней и долгих мечтаний. Человек, который заботливо просиживал ночи у его изголовья, когда он метался в бреду, и проявлял беспокойство даже в том случае, если в палец ему впивалась колючка, этот самый человек научил его бороться за идеи рабочего класса. Он не колеблясь втянул сына в нелегальную работу, сопряженную с огромной опасностью. Чувство долга победило отцовский страх. Такое воспитание дал он сыну.
Теперь Мимис знал, что нежная пора детства минула безвозвратно. Нет, здесь он не мог больше жить, его преследовали воспоминания; друзья поймут его, когда он расскажет об этом. В горах обретет он душевное равновесие…
Вдруг в комнату ворвался ветер — это Павлакис широко распахнул дверь. Листовки разлетелись по полу. Вскочив с места, Мимис принялся их подбирать.
— Озорник, ты что наделал? Закрой скорей дверь! — закричал он.
— Момоника! Момоника! — верещал Павлакис, прыгая по комнате.
— Ну и озорник!
Мимис посадил мальчика к себе на колени, они поиграли немного на губной гармонике, посмеялись, сделали из бумаги красивую лодку. Потом малыш заскучал: ему захотелось снова побегать по улице.
— Иди к свой маме, капитан Вихрь, — сказал Мимис, закрывая за ним дверь.
Во дворе Павлакис увидел листовку, прибитую ветром к кустику жасмина. Он стал звать своего друга, чтобы отдать ему эту бумажку. Но никто не услышал, не понял его детского лепета. Бабушка Мосхула, углубленная в созерцание яркого весеннего дня, который представлялся ей туманным и мутным, повернула к малышу голову.
— Чего тебе опять надо, чертенок? Чего ты шумишь? — спросила она.
Мальчик ничего не ответил и убежал со двора.
Взгляд Бакаса остановился на Павлакисе, показавшемся в воротах на другой стороне переулка. Малыш несся вприпрыжку, размахивая листком бумаги.
Фани была уже одета, надушена. Она торопилась. Дружок ее, наверно, извелся, дожидаясь ее у кино.
— Я ухожу, Андреас. Смотри не забудь закрыть окно. Ключ оставь там, где всегда, — сказала она мужу, который даже не взглянул на нее. — До свидания, — весело крикнула она и, выходя из калитки, впустила во двор Павлакиса.
Она шла по тротуару, покачивая бедрами. Соседка при виде ее насмешливо улыбнулась. На углу дремал старичок в трауре, сидя возле лотка с овощами. Стояла необыкновенная тишина, казалось, все погрузилось в послеобеденный сон.
Павлакис терся о колени Бакаса, тянул его на волосы, за нос, теребил пуговицы на пиджаке. И когда Бакас, наклонившись, прижался щекой к личику ребенка, его взгляд упал на листок бумаги. Малыш не успел весь его смять, и наверху ясно различались крупные буквы: «ГРЕЧЕСКИЙ НАРО…»