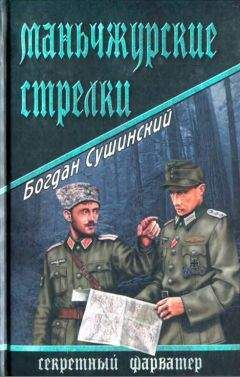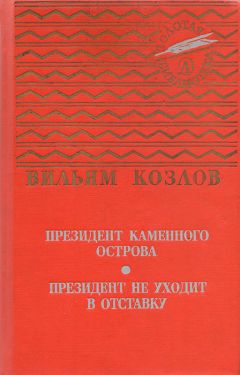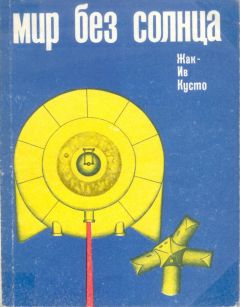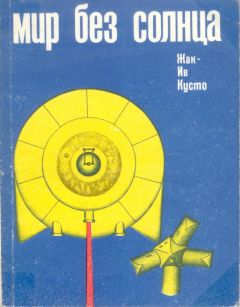Тело Никифора подтянули к ближайшему пеньку, положили на него кисти его рук и подвели отца.
— Еще раз спрашиваю, сам рубить будешь?
— Ик, как жеть сына-то свово?! — Курбатов заметил, как почти мгновенно постарел Гурдаш. Лицо осунулось, спина старчески ссутулилась, руки дрожали так, словно его голым выставили на сибирский мороз.
— Не желаешь, значит?
— Так ведь нелюди вы…
— Это, выходит, мы нелюди?! — уперся лезвием кинжала в его подбородок штабс-капитан Иволгин. — А ты, оказывается, ангел?
— У нас действительно нет времени, Гурдаш, — спокойно молвил Курбатов. — Каждому воздается по делам его. У тебя было много способов зарабатывать себе на хлеб. Ты избрал наиболее страшный — иудин. Да еще и над трупами измывался.
— И сына этому же учил, — добавил Иволгин, которого обвинение в нелюдстве задело больше остальных.
— Отрубив руки, снимешь с него часть греха, — философски рассудил Радчук. — Зачтется, что предстанет перед Господом без обагренных чужой кровью рук.
— Без обагренных чужой кровью… Перед Господом, — бормотал Гурдаш, и бормотание его было похоже на молитву безбожника, не знающего ни одного слова из тех, настоящих, освященных Святым Писанием, молитв.
Перс выдернул из-за ремня, которым был подпоясан его ватник, прихваченный у Гурдаша топор и решительно направился к телу Никифора.
— Постой, — не выдерживает людолов. — Постой. Не торопись.
— Так ведь он мертв.
— Сын ведь он мне.
— Но не живого же, — заметно стушевался Перс.
— И знайте, что он делает это впервые, — заметил Курбатов. — Еще неизвестно, насколько мудрено это у него получится.
— Стой! — вновь не выдержал Гурдаш, видя занесенный над своим сыном топор. — Не тронь! Сам.
— Точно?
— Отступись, нехристь! — вошел в ярость людолов.
— Только не вздумай дурку валять, филин перченый, — неохотно отдал свое орудие Перс, сразу же благоразумно отступив за ствол ближайшего дерева.
Остальные сделали то же самое. Только Курбатов как ни в чем не бывало продолжал стоять в двух-трех шагах от него, положив одну руку на кобуру, другую на ремень.
Он же был единственным, кто не отвернулся и даже не закрыл глаза, когда Гурдаш отрубал руки сына.
Сделав свое страшное дело, людолов опустился у пня на колени, припал челом к окровавленным кистям сына и громко, по-волчьи, взвыл.
— Прекрати! — заорал на него Перс, но Курбатов предостерегающе поднял руку. — Я сказал: прекрати! — почти зарычал Перс, бросаясь к Гурдашу.
— Стоять! — резко осадил его Курбатов. Хотя и понял, что Перс принадлежит к людям, решительно не переносящим слез и причитаний, к которым никогда не принадлежат он сам, Курбатов. Уж он-то умел оставаться хладнокровно-спокойным в любой ситуации. Вытье продолжалось еще минуты две.
— Хватит, Гурдаш, — твердо молвил князь, решив, что времени для прощания было достаточно. — Оттащи тело сына и руби руки милиционеру.
— А может, хватит уже вершить это кровавое палачество? — подвели нервы штабс-капитана Иволгина.
— Делай, что велено, — стоял на своем Курбатов.
Людолов окончательно затих. Поднялся, взял топор. Покорно, с абсолютным безразличием, подтянул милиционера за шиворот к пню. Его руки ом рубил так, словно это были сухие ветки для костра.
— Перс, твоя очередь, — скомандовал Курбатов, когда экзекуция была закончена и топор выпал из руки Гурдаша.
— Почему моя? — вдруг заартачился Перс.
— Так что, мне прикажешь?
— Он, конечно, душегуб, но…
— Остановимся на том, что он душегуб. И должен быть наказан. Радчук, Чолданов…
Диверсанты молча бросились к старику, повалили его на землю, прижали головой к пню.
— Так что, живому? — на удивление спокойно, деловито уточнил Перс, вовремя придя в себя и поняв, что участи палача ему не избежать. — Живому — это другое дело.
Не обращая внимания на рычание Гурдаша, он так же спокойно, как недавно рубил сам Гурдаш, отсек одну руку, потом другую. И дважды рубанул по стопам ног.
Изуродованного, потерявшего сознание людолова отнесли к ближайшей сосне и положили на две, тянувшиеся к земле, ветки. Рядом на деревьях оказались его сын и милиционер.
— Кажется, все по своим местам, а, штабс-ротмистр Чолданов?
— Мы потеряли тьму времени, — брезгливо огрызнулся тот. — Нужно было уходить.
— Мы пришли сюда не для того, чтобы бегать по тайге, — мы ведь не беглые, — а для того, чтобы вершить суд.
— Столь же неправедный, как и тот, который вершили здесь до нас эти казненные.
— А кто сказал, что суды бывают праведными? — задумчиво произнес Курбатов. — Нет, и никогда не было праведных судов.
— А вы не убьете меня?
— Нет, — Курбатов попытался ответить как можно скорее, чтобы Ксения не заподозрила его в том, что задумался над ответом.
— Это правда, не убьете?
Остальные диверсанты сидели на кухне. От комнатушки, в которую он завел девушку, их отделяла довольно просторная проходная комната. Но все же их громкие голоса — голоса подвыпивших мужиков — и гренадерский хохот долетали сюда, заставляя настораживаться. Князь не верил, что кто-то из них решится войти без разрешения, и все же…
— Не надо об этом. Никто не посмеет тронуть тебя.
— Разве ж вам можно верить?
Губы ее нежны и податливы. От них немного веет спиртным — сам же и угостил, — однако Курбатов пытался не замечать этого.
Грудь, так поразившая его своей непорочной первородностью и красотой форм, оголена, и пальцы Курбатова ложатся на нее с той же пугливой нежностью, с какой прикасались бы к груди невесты на брачном ложе.
— Вы что же, не беглые, всамделишные офицеры?
— Всамделишные.
— Настоящие, русские?
— Я похож на немца? Нет, а на японца?
— Тому, кого оставили со мной, не поверила. Решила, что переодетые беглые. Или банда какая…
Уже совершенно обнажив ее тело, Курбатов все еще сдерживал желание наброситься на Ксению. В ее тихом голосе, плавных движениях рук, нежно касавшихся его шеи, в покорности, с которой легла рядом с ним на кровать, чувствовалось что-то такое, что заставляло Курбатова относиться к этой девушке как-то по-особому. Без того озверения, с каким мог относиться, зная, что никуда ей не деться и что в комнате рядом нетерпеливо дожидаются своей очереди еще несколько истосковавшихся по женскому телу молодых мужчин.
— Офицер, что охранял тебя, рассказал, что вытворяли твой жених и будущий тесть с беглыми?
— Страшно все это, Господи. Страшно-то как… — молитвенно закрыла глаза Ксения.
— Но ведь ты знала, каким нелюдским промыслом подрабатывают они себе на хлеб, — произнес князь без всякого осуждения.
Какие-либо слона уже были неуместными. Исцеловав грудь, Курбатов ласкал теперь ноги девушки. И она тоже тянулась к нему, покорно и доверчиво тянулась… Это приятно удивляло Ярослава, заставляя оттягивать момент, когда трогательная нежность ласки должна переплавиться в неистовость обладания.
— Что выдавали беглых — слышала. Но это никого не удивляло. У нас полдеревни стукачей. А вот про руки… Что отрубали руки и получали за это деньги… Об этом услышана от вашего офицера.
— Он не трогал тебя? — вырвалось у Курбатова.
— Нет, что вы?! — испуганно отшатнулась Ксения. — Нет-нет. Меня это даже удивило. Очевидно, без вас не решался.
— Почему ты… с такой покорностью? Без крика, слез, причитаний?
Они оба понимали, что возможности вот так, откровенно, поговорить у них больше не будет. И старались всячески поддерживать этот диалог, подбрасывая и подбрасывая в него слова, словно сухие ветки в угасающий костер.
— Так ведь поняла, что судьба моя такая.
— Судьба… Кто способен предопределить ее?
— Людоловы. Кругом зверье и людоловы, — задумчиво твердила Ксения, погруженная в свои мысли и тревоги. — Смерти боюсь, смерти. Вы ведь их всех троих… Я же вроде как свидетельница.
Курбатов мрачно кивнул. Ему было неприятно, что девушка заговорила о себе как о свидетельнице. Но страшная правда положения, в котором она оказалась, как раз и заключалась в том, что оставить ее в живых для диверсантов равносильно самоубийству. И все, кто находился сейчас в доме, прекрасно понимали это.
— Тебя здесь не было, ты ничего не видела. Не была и не видела. В этом твое спасение. И теперь, и потом, когда к тебе начнут подбираться энкавэдисты.
— Я ничего не скажу им, ничего. Только бы ты спас меня, только бы спас. Я и забеременею от тебя, — тихо прошептала Ксения ему на ухо, ощутив, как вожделенный огонь страсти охватывает все ее женское естество. — И рожу от тебя. Сына. Кто будет со мной потом, уже не важно — ведь так, ведь правда? — выспрашивала она, то впадая в безумие экстаза, то возвращаясь к осознанию, что отдается тому, кто ей действительно понравился. — Ты мой, князь, ты мой… князь.