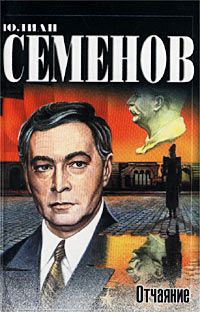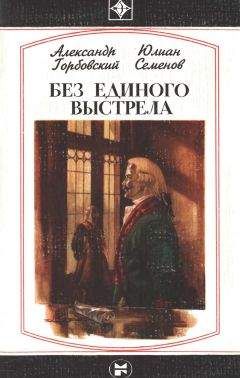Валленберг отрицательно покачал головой:
— В полной мере он стал оккупантом в середине сентября, когда гестапо получило неопровержимые данные, что Хорти начал переговоры о мире. Тогда его оттерли, и пришел сумасшедший Салаши… Еще более ярый антисемит, чем Гитлер, хотя был выходцем из армянской семьи… Откуда в нем это? Эйхман подписал секретный протокол с министром полиции Салаши, совершенно безумным Табором Вайна о том, что часть евреев депортируют в Германию на принудительные работы, часть поселят в центре Будапешта, в гетто, и что наши паспорта теряют свою силу… Только немцы вправе определять: выпустить еврея со шведским паспортом за границу или сжечь в крематории. Кое-как мне удалось отменить расстрел несчастных в гетто и депортацию на принудительные работы в Германию — это же был камуфляж крематориев… Салаши согласился создать «еврейские батальоны принудительного труда»: людей бросили на восток рыть окопы и строить укрепления против той армии, которая шла их освобождать… Расстреливали тех, кто плохо работал, дурно выглядел, не так шел в колонне; салашисты — это звери, те же гитлеровцы… А в ноябре, когда уже все трещало и русские вовсю наступали, меня пригласил Эйхман в свою штаб-квартиру в отеле «Мажестик»… Дверь его громадного люкса заперли, и он стал допрашивать меня, зачем я работал в Палестине в тридцать седьмом. Почему мой дядя выступает против великого фюрера германской нации, друга всех народов мира, защитника цивилизации от большевизма? Почему Рузвельт платит мне деньги? Какие американцы встречались со мною? Русские? Кто напечатал мне тысячи проклятых валленберговских паспортов? В каких типографиях? Он, кстати, — Валленберг прерывисто вздохнул, — не говорил о «Борде», он только и трещал о шпионах из еврейского «Джойнта»… А потом сказал: «Всех евреев с вашими паспортами мы депортируем в Данию». И засмеялся. Причем смеялся искренне, глядя на меня как победитель, сваливший противника по боксу в нокаут. Я же понимал, что Дания — это фикция, там лагерей нет, несчастных расстреляют по дороге, как только вывезут из города… У меня были секунды на раздумье… Знаете, что я придумал? Я сказал ему: «Пусть отопрут дверь, я пошлю шофера за бутылкой виски и блоком сигарет… После этого продолжим наше собеседование…» Эйхман долго сидел не двигаясь, потом обернулся и заорал так, как умеют орать лишь одни немцы: «Открыть дверь!» И все то время, пока мой шофер ездил за виски, Эйхман ходил по кабинету и насвистывал мотив еврейской песенки, представляете? Он, Эйхман, — и еврейский мотив?!
— Сколько времени он свистел? — Исаев задал этот вопрос строго, без обычной своей мягкой улыбки.
Лицо Валленберга внезапно замерло и осунулось:
— Этот же вопрос мне задавали все здешние следователи… Даже делали следственный эксперимент…
— Уверяю вас, так бы поступило и Федеральное бюро расследований…
— А я говорю, что он ходил и свистел! — вскочив с нар, тонко закричал Валленберг. — Он свистел и ходил! Как заводной! Вы ведь жили там, по вашим словам! Тогда вы знаете, что со жратвой у них было плохо! А с сигаретами — и вовсе! У них не было сигарет! Не было! Они травили свой народ каким-то смрадом, гнилым сеном! А я еще сказал шоферу, чтобы он взял банку ветчины и круг сыра! Эйхман ждал еду, понятно вам?! Эта тварь хотела жрать!
Спецпайки давали начиная с штандартенфюрера СС, вспомнил Исаев, да и то далеко не всем. Эйхман был ниже меня званием, хотя руководил отделом по уничтожению евреев. Валленберг прав, жрать хотели все…
— И что случилось, когда вы дали ему взятку? — подтолкнул Исаев. — Как он себя повел?
— Он напился, крепко напился, — сразу же успокоился Валленберг, обрадованный, видимо, тем, что ему поверили наконец. — И сказал, что я ему нравлюсь… А потом изогнулся надо мною, как строительный кран, я чувствовал его запах, запах гнилых зубов, плохо стиранного белья, плесени, и произнес: «Я так хорошо отношусь к вам, милый Валленберг, что готов помочь… Это бесценная помощь, ее будут ставить вам в заслугу те евреи, которые чудом уцелеют от правого суда фюрера… Если вы переведете на мой счет сто пятьдесят тысяч золотых швейцарских франков, я позволю вам вывезти отсюда маленький эшелончик евреев с вашими валленберговскими паспортами… А там — поглядим… Как? Ничего, а?» С того дня меня повсюду сопровождал офицер тайной полиции Салаши — «для обеспечения безопасности»: «Венгры вас ненавидят за помощь евреям, могут пристрелить ненароком». Я встретился с Эйхманом еще раз, во время разгула салашистского кошмара, когда работать мне становилось все страшнее и страшнее: гитлеровцы и салашисты, будучи не в силах сдержать натиск русских, обрушивали свою ненависть на несчастных евреев, словно те были виноваты в их поражении. Вот тогда-то Эйхман и сказал мне: «Согласитесь, что лишь один я помогал вам спасти евреев… Был бы кто другой на моем месте, вам бы ничего не удалось сделать… Если вы честный человек, то скажете будущим поколениям: „Евреев спасал Эйхман“…» А на следующий день началась резня в гетто… По его приказу… Ну а потом… Потом, когда вошли русские, я хватал мерзавцев Салаши, которые учинили расстрел в гетто, встречал красноармейцев. Был допрошен офицером НКВД, — он усмехнулся, — евреем… Очень, кстати, старался, звал к чистосердечному признанию… Какому, я до сих пор не пойму… Но меня освободили наутро… Отвезли к какому-то комиссару, сказали, что он во главе армии, то ли Вризнефф, то ли Бризнефф, тот расспрашивал меня о ситуации, сказал, что надо ехать к маршалу Малиновскому, в штаб фронта, в Дебрецен… Я ответил, что сначала надо посетить гетто, помочь тем, кто остался в живых после расправы… Убили сто тысяч, эсэсовцы и салашисты старались как могли. Осталось в живых семьдесят тысяч — люди без глаз, без лиц, парализованные страхом… Это те, кого мне удалось спасти… Я вновь вернулся в штаб русских и сказал, что сейчас объеду друзей, которые остались в живых, и после этого передам все деньги «Борд» в фонд немедленного восстановления Будапешта… Города ведь не было — стены, руины, пожарища. Я назвал мою организацию «Институтом Валленберга по восстановлению»… С этим я и отправился в штаб, передав все деньги для начала восстановительных работ… А меня схватили… Сначала обвиняли в том, что я немецкий шпион, потом — английский, а сейчас требуют признания, что я агент этого самого «Джойнта», а я с их людьми и не встречался ни разу… Нет, вру… Встречался…
— Погодите-ка, — перебил его Исаев, но Валленберг словно и не слышал его.
— Я встречался, — с какой-то злобой, думая о своем, чеканил он, — с Альбертом Энштейном, Фейхтвангером и Иегуди Менухиным, они были почетными членами «распределительного комитета», «Джойнта»… Когда я учился в Мичигане на архитектора, я слушал Менухина… Три раза… Баснословно дорогие билеты на его концерты, но я покупал…
Исаев облегченно вздохнул: Валленберга не понесло.
— Что, у банкирского сына туго с деньгами?
— Банкирские родители самые что ни на есть скупердяи, — ответил Валленберг, — я рассчитывал каждый цент на месяц вперед, чтобы не одалживать у друзей…
Александр Максимович Исаев, которого по правде-то должны были записать в метриках Александром Всеволодовичем Владимировым (не знала Сашенька истинного имени любимого, тот выполнял приказ, жил по легенде), после того как услышал голос отца (шальной случай свел их лицом к лицу в Кракове, в сорок четвертом, до этого он только грезил о нем, разглядывал единственную сохранившуюся у матери фотографию), когда доктор уговаривал его кричать все громче и громче: «Сейчас твой отец придет, ты ж слышал его? Он ведь звал тебя, правда?!», после того как действительно он услышал голос отца, усиленный динамиками, в ответ на свои бесконечные «папа, папочка, папа, ты слышишь меня, папочка?!», медперсонал зафиксировал странное изменение в поведении больного зэка.
Долгие годы он пребывал в полнейшей апатии, по зарешеченной палате двигался робот. Теперь же глаза Александра Исаева обрели некоторую подвижность; он, например, стал реагировать на яркие закаты. Более того, впервые за все годы заключения сам, без чьей-либо просьбы произнес слово «солнышко».
Узнав об этом, доктор Ливин вызвал к себе пациента, считавшегося безнадежным, сел напротив него, положил тоненькую девичью ладонь на колено бывшего капитана армейской разведки РККА, а ныне зэка, приговоренного к двадцати пяти годам лагерей, зэка 187-98/пн, и, приблизившись к нему, впился в зрачки больного своими базедовыми глазами, увеличенными толстыми линзами очков.
— Санечка, а зыркалки-то у тебя получшали, — заговорил он ласково, чуть недоумевающе, но одновременно с какой-то долей радости. — Они ведь, зрачоченьки твои, Санечка, стали реагировать на… Хм, вот что значит с родителем поговорить, а?! Ну-ка, скажи, что ты вчера вечером в окне видел?