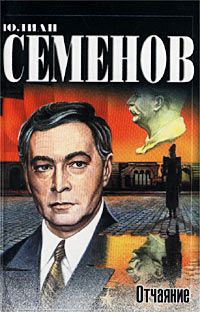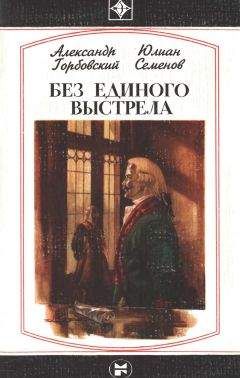— Санечка, а зыркалки-то у тебя получшали, — заговорил он ласково, чуть недоумевающе, но одновременно с какой-то долей радости. — Они ведь, зрачоченьки твои, Санечка, стали реагировать на… Хм, вот что значит с родителем поговорить, а?! Ну-ка, скажи, что ты вчера вечером в окне видел?
Зрачки Александра Исаева расширились, лицо свело резкой, странной гримасой то ли смеха, то ли ужаса, — и он тихо ответил:
— Одуван…
Доктор Ливин, не снимая ладони с его колена и не отрывая взгляда от зрачка, придвинулся еще ближе:
— Что, что? Я не понял, Сашуля, повтори-ка еще раз…
— Фу-фу, — показал зэк губами, а потом выпалил, — и детишки полетели, полетели, беленькие, с ножонками, легонькие…
Доктор резко откинулся на спинку стула. Александр, выработавший во время пыток рефлекс страха на быстрые и неожиданные движения, схватившись за голову, вскочил. Однако на этот раз он испугался не того, что его могут ударить, а потому, что явственно увидел фразу, которую произнес. Она жила не отдельно от него, не в таинственной его глубине, забиваемая сотнями других странных, бессильных, ищущих друг друга разноинтонационных звучаний, как это было последние годы, а вполне реально: вот он, одуванчик, дунь на него весною, и, как говорила мама, одуванчиковы детишки полетят по лесу.
Доктор Ливин подошел к Александру, обняв его, вернул к столу, мягко усадил, погладил по голове, привычно ощутив глубокие шрамы и мягкие податливости черепа; заговорщически подмигнул:
— А как же звали папу детишек?
Александр Исаев долго молчал, страшась чего-то, а потом прошептал:
— Не скажу.
— Почему? — обиженно удивился доктор Ливин.
— А все равно детишки уж разлетелись на парашютиках, — Александр Исаев тихо улыбнулся. — Не поймать…
— Какие детишки? — по-прежнему мягко поинтересовался Ливин. — Разве у тебя братья были? Сестры?
— Были…
— Ну-ка, позови их, — предложил доктор, — я их сейчас к тебе привезу.
— Улетели… Не догнать теперь…
— Да кто улетел?! — Ливин начал терять терпение: «Старею, раньше мог беседовать с несчастными идиотами, стараясь понять ломаную, но тем не менее таинственно-логичную линию трагической аномалии».
— Детишки, — повторил Александр. — Мягонькие, пушистенькие, никого не обидят, зла не принесут…
— А дуешь ты почему?! Разве на детишек дуют?
— На одуванных — да…
Ливин наконец понял:
— Так это ты про одуванчик? Тот покачал головой:
— Вы ж про солнце спрашивали… А я про одуванчик сам думал… Без вас… Один…
С того дня Ливин перевел Александра Исаева в отдельную тихую палату, прописал ему курс новой терапии и сегментальные массажи, добился у начальства двухчасовой прогулки — зэк ложился в его докторскую диссертацию «Роль шока в психике больного, перенесшего тяжелую травму черепа».
Он работал каждый день, часа по три; Александр постепенно начал хмуриться — явный симптом возвращения памяти или обостренной реакции на вопрос.
Речь его становилась менее загадочной — поначалу была потаенной, тройной смысл в каждой фразе.
…Ливин помолодел, научное счастье само шло в руки.
И в тот как раз день, когда намеревался начать заключительные программы, его вызвал начальник спецтюрьмы:
— Как Исаев? Вы с ним, говорят, много возитесь?
Поскольку начальник был обыкновенным тюремщиком, к науке не имел никакого отношения, на ученых смотрел с открытым юмором, не лишенным, впрочем, доброжелательства, Ливин рассказал ему про работу.
— Ну и хорошо, — ответил тот, внимательно выслушав доктора. — Завтра комиссия приезжает… Ему, оказывается, вышку дали, а полных придурков не шлепают… Так что вы уж порадейте, чтоб он, понимаете, показался нашим гостям более или менее нормальным.
— Я умоляю вас, — Ливин прижал свои девичьи руки к старческой груди, — я вас умоляю, Роман Евгеньевич! Этого зэка нужно спасти! Я работаю с ним во имя науки! Нашей, русской науки! Он может опрокинуть всю диагностику, которая была раньше! Молю вас, Роман Евгеньевич!
— Товарищ военврач, — сухо отрезал начальник, — вы мое приказание слышали? Слышали. Извольте исполнять… Советский народ, понимаете, строитель коммунизма, терпит нужду, еще не всюду живут так, как мы того хотим, а нам, понимаете, с придурочными контриками цацкаться, которые пищу рабочего класса жрут?!
…Дождавшись, когда персонал ушел по домам и остались одни лишь надзиратели, Ливин заглянул в камеру Александра Исаева:
— Санечка, завтра к тебе приедут разные люди, — прошептал он. — Будут спрашивать тебя… Так ты молчи, Санечка, ладно? Ты молчи! Молчи, как раньше! К тебе плохие люди придут, ты им не верь, на вопросы не отвечай, понял меня, сынок?
— Я не твой сынок, — так же тихо ответил Александр Исаев, — у меня папочка есть, он красивый и очков не носит…
Доктора Ливина арестовали на рассвете — камера Исаева-младшего прослушивалась.
…Члены комиссии, прибывшие утром, внимательно ознакомились с историей болезни зэка 187-98/пн, затем вызвали Александра Исаева в комнату, залитую солнцем, предложили сесть; он, глядя на них непонимающим взглядом, стоял молча.
— Санечка, вы ведь уж и говорить начали, — копируя манеру арестованного Ливина, ласково начал старший комиссии. — Ну-ка, расскажите и нам что-нибудь интересненькое…
Александр Исаев стоял неподвижно, стараясь удержать в себе не столько шепот Ливина, сколько его молящие глаза, в которых ему почудились капельки, — кап-кап, кап-кап, дождик, лей, грибочки, растите скорей… Лизанька… Это в пионерлагере пела Лизанька…
— Ну, Санечка, мы ждем, — по-прежнему ласково и неторопливо продолжал председатель комиссии. — Мы ведь хотим выписать тебя… Отпустить домой… К родителям, если твое дело действительно пошло на поправку… Доктор Ливин считает, что ты уж совсем поправился…
Александр Исаев по-прежнему стоял неподвижно, смотрел сквозь этих людей, ворошивших какие-то бумаги, и не произносил ни единого слова.
Тогда председатель комиссии, довольно молодой военный врач, осторожно, с долей брезгливости, повернул черный рычажок под столом — терпеть не мог отечественной техники, непременно подведет в самый важный момент.
В комнате послышалось завывание ветра, далекий треск морзянки, чьи-то размытые слова, набегавшие друг на друга.
А потом, прорываясь сквозь эту далекую пургу, явственно прозвучал голос Максима Максимовича Исаева:
— Сыночек, ты слышишь меня?!
И Александр Исаев, сделав шаг навстречу, закричал:
— Папочка, миленький, слышу! Слышу тебя, родной! Мне уже совсем хорошо! Я почти все вспомнил, папочка! Где ты?! Папочка?! Отвечай же! Хочешь, я еще громче закричу? Ты слышишь меня?!
Военврач выключил магнитофон и кивнул надзирателям: «Можете уводить».
— А папа? — по-детски пронзительно закричал Саня. — Папочка! Я же здесь! Почему ты замолчал?! Я здоров, папочка! Я помню! Я вспоминаю, папа!
…Александра Исаева признали вменяемым и увезли в другую тюрьму.
Когда трем исполнителям показали его — один из них должен был во время конвоирования по коридору выстрелить осужденному в затылок, — самый рослый из них сделался вдруг белым как полотно:
— Так это ж наш капитан! Это Коля! Он нам в Праге жизнь спас! Товарищи, он наш! Он наш! Это ошибка, товарищи!
— Ты на одуванчик подуй, — тихо сказал Исаев-младший, — детишки по миру разлетятся. — А потом улыбнулся загадочно: — Мне в спину нельзя… Мне в голову надо, она у меня болит, а спина здоровенькая…
…Исполнитель Гаврюшкин был расстрелян через семь дней; провел пять суток без сна на конвейере: «Кто рекомендовал пролезть в органы? С кем снюхался в Праге в мае сорок пятого?!»
…Начальник команды получил строгача с занесением.
Заместитель начальника отдела кадров отделался выговором без занесения в учетную карточку.
Начальнику тюрьмы было поставлено на вид.
Влодимирский чувствовал, что наверху происходит нечто странное, непонятное ему, какое-то дерганье и суета, начинавшаяся вдруг и столь же неожиданно кончавшаяся.
Разгадывать политические ребусы — работа, непосильная для обычного человека, хотя и с полковничьими погонами, да еще при полнейшем расположении начальства: как абакумовского, так и комуровского (считай, берйевского). Именно это последнее — благорасположение с двух сторон — держало его в состоянии постоянной напряженности, не оставляя времени исследовать то, что так беззвучно и незаметно, но давно и грозно ворочалось в Кремле: мимо него не проходили ни разговоры о семье Молотова — странные разговоры, тревожные; ни намеки на то, что Сталин перестал принимать члена Политбюро Андрея Андреевича Андреева, который в свое время тесно сотрудничал с Дзержинским; прервал отношения с Ворошиловым; постоянно — так было в тридцать шестом, рассказывали старожилы, — вызывает Вышинского; явно приблизил Абакумова; Берия принимает реже, чем Виктора; маршал по этому поводу сухо заметил: «Зарвался».