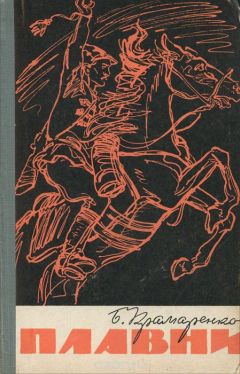— Дядя Михаиле! Шпак сурово прикрикнул:
— Я для тебя сейчас — господин подхорунжий. Ты что думаешь, полковник Дрофа нас с тобой похвалит? Разжалует в рядовые… да еще шомполов всыпет!
— Не разжалует… господин подхорунжий: у него из лагеря тоже черти сколько сбегло.
— Много ты понимаешь! В шестом году, когда был он подъесаулом, а я в его сотне младшим урядником, сотня наша была брошена на подавление крестьянских бунтов. Тогда Дрофа даже стариков не щадил, порол не только плетьми, а и шомполами. И многие, после порок тех, отдали богу душу… А в восемнадцатом и девятнадцатом он был в прифронтовой контрразведке. — Шпак спохватился, что нельзя говорить так о своем начальнике при взводном, и резко переменил тон.
— Сегодня же собери всех урядников и строго–настрого прикажи, чтобы без особых пропусков, за моей и твоей подписями, никого за хутор не выпускать! А дежурному по конюшне дай двадцать шомполов перед строем… Ну, иди, а я рапорт сотнику писать буду.
Тимка вышел из комнаты и притворил за собой дверь.
В кухне, возле печки, подоткнув подол светло–синей юбки, возилась хозяйка.
— Что, Степановна, топить вздумала?
Тимка догадывался о том, что его брат завязал любовную связь с этой женщиной, но делал вид, что ничего не замечает.
Хозяйка не оборачиваясь ответила:
— Твоим лодырям хлеб поставила, да и своему идолу пышек спечь надо.
— А мне?
— Тебе–то чего?
— Как чего? — возмутился Тимка. — Ты же мне сдобный пирог обещала!
— Разве? — Хозяйка засмеялась и повернула к Тимке лицо. — Если споешь мне сегодня, испеку.
— Я ж тебе пел.
— Ну что ж, а сегодня — еще. А не хочешь петь, поцелуешь.
— Чтоб меня брат уздечкой отвозил?
— А ты боишься? — Она ожгла его взглядом насмешливых карих глаз. — Так поцелуешь?
— Не дури, Степановна, муж узнает, будет тебе…
— Ну вот, то братом своим, то мужем лякать вздумал. Что я им, крепостная? Ну, говори, петь будешь или целовать? А то не испеку тебе пирога. Или ты днем боишься, так я до ночи обожду… Хочешь, я тебе сегодня в чулане постелю?
Тимка уже не рад был, что затеял разговор про пирог. Он видел, что хозяйка шутит, но было что–то в ее глазах и голосе, что заставляло Тимку краснеть и отворачиваться.
— Ладно, Степановна, спою…
— Значит, петь решил. Потом, какая я тебе «Степановна», меня Лизой звать… Брат сегодня приедет?
— Завтра к вечеру, — Тимка взялся за ручку двери.
— Так постелить тебе в чулане?
— Там крысы.
— Аль боишься, что нос отъедят? — засмеялась хозяйка. — Управлюсь, приду крыс поотгоняю.
Тимка сердито взглянул на нее и невольно обратил внимание на ее голые стройные ноги. «Красивая она все же», — подумал он, выходя во двор.
…Перед Тимкой стоят неподвижно шеренги его взвода. На правом фланге, как всегда, несуразная длинная фигура урядника Грабли. Он нагло смотрит на Тимку и всем видом своим словно спрашивает: «Ну, а дальше что?» Тимка старается не замечать Граблю и молча скользит взглядом по лицам казаков первой шеренги. Вон, рядом с Граблей, правофланговым, стоит Тимкин новый друг Васька. Вот, чуть ближе, два рослых конвойца — братья Лещенко, те самые, что хотели разоружить его в хмелевском саду. Вон, прямо перед ним, Никола Бредень, взводный кузнец с могучими руками, бессильно опущенными сейчас «по швам». А дальше — младший урядник Галушко. Он только что вернулся на хутор, смененный урядником Щурем, и, узнав о побеге Бурмина, виновато смотрел на Тимку.
Тимка остановился взглядом на молодом казаке.
— Савчук! Два шага вперед, марш! Казак вышел вперед и вытянулся.
— Ты знаешь обязанности дежурного по конюшне?
— Так точно, знаю, господин взводный.
— Так почему же ты, собачий сын, разрешил уряднику Бурмину коней увесть?!
— Он сказал, що вы его в первый взвод посылаете.
— Сказал!., посылаете!., ух… ты!.. — и Тимка первый раз в своей жизни обругал человека грязными, похабными словами. — Пропуск у него потребовал?
— Никак нет, господин взводный.
— Не потребовал… По приказанию командира взвода — двадцать шомполов перед строем. Я тебя научу, как дежурить, сволота!
— Господин взводный…
— Молчать! Урядник Галушко! Приведите в исполнение приказ.
Провинившегося казака положили на вынесенную из хаты лавку, сняли с него чекмень и рубаху, спустили шаровары.
Урядник Галушко взмахнул смоченным в самогоне шомполом и нанес первый удар. Кроваво–синий рубец вздулся на спине Савчука, из горла его вырвался хриплый стон. Второй удар был еще сильнее и пришелся по пояснице. Тимка поморщился от животного вопля избиваемого. «Ну и порет, сволочь, норовит все печенки отбить…»
После четвертого удара у Савчука пошла кровь из горла. Тимка не выдержал и махнул рукой:
— Отставить!
Галушко недовольно опустил уже занесенный шомпол:
— Всего четыре, господин взводный… Тимка разозлился:
— Не разговаривать!! Взво–о–од! Направо–аво–о! Ра–зойдись–и-ись!
…За ужином Тимка сидел молча и почти ничего не ел. Шпак тоже молчал, мало ел, но пил много, и хозяйка, подсевшая к ним, то и дело доливала в его стакан.
Взвод давно поужинал, и казаки разбрелись на ночлег. В хате, кроме них да хозяйских детей, спавших на печке, никого не было. «Зачем она его спаивает?» — подумал Тимка, недовольно взглянув на хозяйку. Но та, сделав вид, что не заметила Тимкиного взгляда, долила Шпаку стакан мутной жидкости.
— Кушайте, Михайло Пантелеевич. Шпак выпил и, не закусывая, вытер усы.
— Ты, Тимофей, о Савчуке меньше думай. Без строгости дисциплину держать нельзя.
Тимка ничего не ответил. Он потянулся за бутылкой, налил полстакана самогонки и залпом выпил.
— Тимочка! — всплеснула руками хозяйка.
— Оставь его, Степановна, — проговорил Шпак. Он заметно хмелел и, видимо, хотел спать.
От выпитого самогона у Тимки закружилась голова. Он встал из–за стола и нарочито зевнул.
— Пойду спать!
Хозяйка налила Шпаку еще стакан самогона и тоже поднялась.
— Я тебе в чулане постлала… иди ложись…
Тимка хотел возразить, но хозяйка взяла его за плечи и толкнула к двери.
— Иди, иди! Там крыс нет, а в зале я пат подмазывать буду.
Тимка побрел в чулан. Нащупав в темноте постланную хозяйкой перину, он наскоро разделся и лег, укрывшись тканевым одеялом.
…Было уже утро, когда Тимка открыл глаза и потянулся. Он вспомнил все, что с ним случилось, и сел. Тимка был один в чулане, но его постель еще хранила тепло хозяйкиного тела.
«Эх, погано вышло! А, да не все ли теперь равно!» Он стал одеваться. Дверь чулана приоткрылась, и в щель просунулась голова урядника 1 алушко.
— Господин взводный! Убег.
— Кто?!
— Савчук убег. Пеши. — Галушко простодушно улыбнулся. — Догнал я его, господин взводный, возле самого хутора, в балке он схоронился.
— Где же он, веди в хату.
— Нема…
— Как нема, ты же догнал?
— Срубал я его, господин взводный. Тимка вздрогнул.
Ему представился мертвый Савчук, разрубленный до пояса и залитый кровью.
1
В ночь на пятое июля тысяча девятьсот двадцатого года в ставке барона Врангеля шло совещание верховного командования Русской армии. Врангель был нездоров, и на совещании председательствовал его начальник штаба, пожилой генерал с бритым лицом, покрытым сетью морщин. Начштаба прочитал собравшимся только что Подписанный Врангелем приказ о переходе в наступление против советских войск.
— Наконец–то! — вырвалось у одного из членов со–вещания — совсем еще молодого донского генерала Коновалова.
Начштаба неодобрительно глянул на чересчур экспансивного генерала и сухо продолжал:
— Итак, господа, какими же силами мы располагаем для нашего наступления? Прежде всего, это первый армейский корпус под командованием генерала Кутепова. В этот корпус входят дивизии: Корниловская, Марковская и Дроздовская. Всего корпус насчитывает шесть тысяч двести штыков, четыреста десять сабель, сто тридцать пулеметов и пятьдесят орудий.
— Во второй армейский корпус, под командованием генерала Слащова, входят две дивизии в составе пяти тысяч пятисот восьмидесяти штыков, восьмисот семидесяти сабель, ста сорока семи пулеметов и двадцати четырех орудий.
— Кубанские, терские, астраханские и черкесские полки образуют сводный корпус генерала Писарева в составе пяти тысяч девяносто шести штыков, тысячи ста восьмидесяти сабель, ста тридцати семи пулеметов и ста сорока орудий.
— Далее, мы имеем донской резервный корпус, насчитывающий семь тысяч шестьсот сорок штыков при ста шестнадцати пулеметах и двенадцати орудиях.